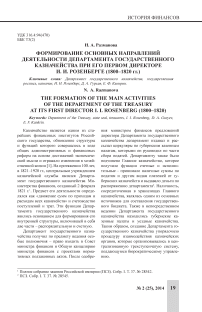Формирование основных направлений деятельности департамента государственного казначейства при его первом директоре И. И. Розенберге (1800-1820 гг.)
Автор: Разманова Наталия Александровна
Журнал: Экономическая история @jurnal-econom-hist
Рубрика: История финансов
Статья в выпуске: 2 (25), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье раскрывается процесс становления основных направлений деятельности департамента государственного казначейства в первое десятилетие его существования. Показана роль первого директора Департамента И. И. Розенберга, его взаимодействия с министрами финансов Д. А. Гурьевым и Е. Ф. Канкриным. Впервые приведены биографические данные о И. И. Розенберге.
Департамент государственного казначейства, государственная роспись, казначеи, и. и. розенберг, д. а. гурьев, е. ф. канкрин
Короткий адрес: https://sciup.org/14723711
IDR: 14723711 | УДК: 316.4:94(470)
Текст научной статьи Формирование основных направлений деятельности департамента государственного казначейства при его первом директоре И. И. Розенберге (1800-1820 гг.)
Казначейство является одним из старейших финансовых институтов Российского государства, обновление структуры и функций которого совершалось в ходе общих административных и финансовых реформ на основе достижений экономической мысли и отражало изменения в хозяйственной жизни [1]. На протяжении 100 лет, в 1821–1920 гг., центральным учреждением казначейской службы являлся Департамент государственного казначейства Министерства финансов, созданный 2 февраля 1821 г.1. Предмет его деятельности определялся как «движение сумм по приходам и расходам всех казначейств» и счетоводство поступлений и трат. Эти функции Департамента государственного казначейства явились основанием для формирования его внутренней структуры, включившей в себя две части – распорядительную и счетную.
Департамент государственного казначейства получил по предмету ведения особые полномочия – право входить в Совет министра финансов и Общую канцелярию министра финансов с проектами нормативных подзаконных актов. После одобре- ния министром финансов предложений директора Департамента государственного казначейства департамент издавал и рассылал циркуляры по губернским казенным палатам, которыми он руководил по части сбора податей. Департаменту также было подчинено Главное казначейство, которое получило функции счетные и исполнительные – принимало наличные суммы по податям и другим видам платежей от губернских казначейств и выдавало деньги по распоряжению департамента2. Наличность, сосредоточенная в хранилищах Главного казначейства, являлась одним из основных источников для составления государственного бюджета. Также в непосредственном ведении Департамента государственного казначейства находились губернские казенные палаты и уездные казначейства. Таким образом, создание Департамента государственного казначейства упорядочило процедуру взаимодействия казначейских органов, которые организовывались в централизованную трехступенчатую систему, поддающуюся бюрократическому управлению.
Во главе департамента стоял директор, который непосредственно подчинялся министру финансов и был обязан присутствовать на заседаниях Совета министра финансов. На основании «Учреждения министерств» 1811 г. директор Департамента государственного казначейства получил право внутри своего ведомства «распоряжаться… всеми делами Департамента», иметь главный надзор за действиями чиновников. Особо регламентировалось право директора на кадровую политику в своем департаменте. Он имел право представлять выбранные им кандидатуры вицедиректоров на утверждение министра финансов, а также «представлять» министру финансов о необходимости «по уважениям… и с пользою государственной службы сопряженным» увеличивать или сокращать штаты чиновников департамента3.
В целом функции директора Департамента государственного казначейства в значительной степени сопоставимы с функциями Государственного казначея, должности, существовавшей до учреждения Департамента государственного казначейства [15]. Обе должности причислялись к слою правящей элиты, кругу лиц, непосредственно участвовавших в управлении государством. Изучение особенностей эволюции слоя высших сановников, их роли в государственной политике актуализировано в отечественной литературе [6; 7; 11; 12; 19; 21]. Но о директорах Департамента государственного казначейства, многие из которых впоследствии становились сенаторами, товарищами министра, министрами, членами Государственного совета, известно мало или сведения почти отсутствуют, как, например, о И. И. Розенберге. Отсюда очевидно, что выявление роли первого директора Департамента государственного казначейства в формировании основных направлений деятельности этого ведомства позволит воссоздать более полную картину казна- чейства как важнейшего государственного финансового института.
Первым директором Департамента государственного казначейства был назначен Иван Иванович Розенберг, происходивший из дворян Лифляндской губернии. Он родился 15 ноября 1766 г. и, как большинство будущих чиновников того времени, образование получил дома. 15 апреля 1782 г. он поступил в Канцелярию опекунства иностранных дел. Это центральное учреждение занималось приемом переселявшихся в Россию иностранцев, выдачей им паспортов и денег на обзаведение хозяйством. Летом 1782 г. канцелярия была упразднена [4, с. 218–219]. В феврале 1785 г. И. И. Розенберг был принят в штат Экспедиции о государственных доходах, которой руководил Государственный казначей А. И. Васильев. Начиная с 1797 г. И. И. Розенберг стал принимать участие в составлении ведомостей о доходах и расходах по государству, которые представлялись на доклад Павлу I [16]. В октябре 1803 г. распоряжением Государственного казначея Ф. А. Голубцова И. И. Розенберг был назначен советником Экспедиции о государственных доходах в чине коллежского советника, а в конце 1808 г. получил чин статского советника и занял должность старшего советника экспедиции, приняв в непосредственное управление довольно обширный и разнородный штат чиновников [17].
По описанию современника, И. И. Розенберг «был горбат, довольно зол и мстителен. По своей физической конструкции избегая общественности, он не мог приобрести приятных форм, которые несколько смягчают жесткость натуры и дают сношениям между начальником и подчиненными характер не столь суровый» [18, с. 188, 189]. Всем были известные его взыскательность и строгость, он «все время посвящал службе… являлся аккуратно в 8 часов утра и сейчас требовал то того, то другого чиновника». Обэтомжевспоминалслужившийподначалом И. И. Розенберга П. И. Голубев: «Это был… господин чрезвычайно энергический и в высшей степени трудолюбивый. Этих же качеств, т. е. расторопности и прилежания, он требовал от всех и каждого из своих подчиненных» [3, с. 518]. Последнее было необходимо, так как в числе служивших в Экспедиции о государственных доходах в 1800 – начале 1810-х годов было немало литераторов и поклонников поэзии, в том числе А. П. Беницкий, М. В. Милонов, Н. И. Федоров, И. М. Никольский, братья Д. М. и А. М. Княжевичи. Это был «тесный дружеский круг любителей наук и литературы», собрание скорее «умных и образованных людей, нежели работников». Центром притяжения был А. Е. Измайлов, который нередко писал деловые бумаги стихами [9].
По средам и пятницам управляющий Экспедицией о государственных доходах К. А. Лубьянович в сопровождении старших советников И. И. Розенберга и А. И. Миллера ездил на доклад к министру финансов Д. А. Гурьеву. В эти дни чиновники экспедиции, поклонники литературы, собирались в третьем столе, начальником которого был А. Е. Измайлов, и читали как собственные сочинения, так и новинки из литературных журналов. И. И. Розенберг, требовавший серьезного отношения к службе, восстанавливал дисциплину, чиновники не любили и «боялись его как огня». Вместе с тем современники отдавали И. И. Розенбергу справедливость – «он никого не обижал по службе и воздавал каждому должное» [3, № 3, с. 422, № 4, с. 518–519; 18, с. 190].
В начале 1812 г. роль казначейства усилилась в предчувствии близкой войны, а все его служащие исполняли не только штатные обязанности, но и чрезвычайные поручения правительства. Для финансового обеспечения армии был учрежден Секретный комитет финансов, в который вошли Председатель Комитета министров Н. И. Салтыков, министр финансов Д. А. Гурьев и пользовавшиеся личным доверием Александра I И. В. Васильчиков и П. М. Волконский. Первоначально Секретный комитет назначал выдавать суммы на военные нужды из Главного казначейства, капиталов Заемного банка, приказов общественного призрения, а также перераспределяя средства, предназначенные другим министерствам4. Д. А. Гурьев оформлял решения комитета в форме циркуляров и направлял их в Экспедицию о государственных доходах, которая в свою очередь давала соответствующие предписание для казначейства остаточных сумм в Петербурге.
На основании Манифеста 9 апреля 1812 г. Государственное казначейство получило распоряжение комитета на выпуск государственных облигаций «для безостановочного удовлетворения чрезвычайных воинских расходов» в размере 10 млн руб. Манифест объявлял, что облигации государственного казначейства будут выпущены номиналом в 200 и 500 руб. «по шести на сто» сроком на один год. В течение этого срока Военное министерство получало право расплачиваться облигациями по уже заключенным «нарядам», а с продавцами за наличные деньги – только при их согласии. Через год облигации разрешались к приему вместо наличных денег в платежи податей, недоимок, пошлин и прочих государственных сборов5. «Исчислениями» фискального эффекта выпуска облигаций занимались старшие бухгалтеры Экспедиции о государственных доходах С. Кандалинцев и П. П. Янжул-Михайловский, общее руководство лежало на старшем советнике Экспедиции И. И. Розенберге6 . Попытки избежать необеспеченной эмиссии ассигнаций дали 10 млн руб. облигациями внутреннего займа и еще 10 млн за счет мобилизации наличных сумм из казенных кредитных учреждений и средств Казначейства7 .
Между тем И. И. Розенберг по указанию министра финансов составил государственную роспись на 1812 г., где был показан дефицит в 52 млн 680 тыс. руб. При этом из 308 млн 262 тыс. руб. ожидаемых поступлений на военное ведомство первоначально предполагалось израсходовать по смете 153 млн 650 тыс., а сверх сметы еще 8 млн 678 тыс. руб.8 В целом предполагалось потратить на военные нужды почти 52,7 % годового бюджета. В мае комитет, обсудив неутешительные итоги экономии, признал, «что необходимо должно будет прибегнуть к чрезвычайным мерам для доставки способов к удовлетворению всех нужд» действующих армий, подразумевая под этим необеспеченную эмиссию. Поскольку Манифест 1810 г., инициированный М. М. Сперанским, возвещал о прекращении эмиссии, комитет мог «принять меры достаточным образом на всевозможные случаи» только с санкции императора Александра I.
В то время деятельность Экспедиции о государственных доходах получила новое направление. Старшие советники И. И. Розенберг и А. И. Миллер на основании распоряжения Секретного комитета финансов занялись «исчислением сумм, потребных на выдачу войскам действующих армий прибавочного жалованья»9. Затем последовали расчеты денежных средств на добавочные мясные, рыбные и винные порции, «выдачи генералитету, штаб- и обер-офицерам» на содержание верховых лошадей. По требованию военного министра М. Б. Барклая де Толли тогда же, весной 1812 г. были произведены расчеты дополнительных денежных средств «на экстренные расходы» в связи с предстоящей войной с Наполеоном. Все требования военного министра сопровождались пометками о чрезвычайной срочности снабжения армий денежным до- вольствием, что приводило к весьма напряженной работе старших чиновников Экспедиции о государственных доходах10.
Император, учитывая представленные ему расчеты и продолжавшие поступать требования денег из армий и от морского министра, наложил резолюцию: «Опреде-лительно назначить ныне, сколько еще сумм востребуется на непредвиденные расходы военные невозможно, следует же министерству финансов приискать все средства, дабы иметь в запасе досрочно сумм на случай их востребованности». Первоначально речь шла о «заготовлении» 31 млн руб. ассигнациями11. С началом войны в счете Главного казначейства о расходах военного и морского министерств, подготовленного для Комитета финансов И. И. Розенбергом, были показаны уже реальные размеры экстренных трат в первое полугодие. Они составили 19 млн 973 тыс. руб.12 В первый период войны русская армия отступала, «не даром» оставляя за собой «сожженные пожаром» города и села. Тяжелые потери имелись с обеих сторон, но потери Наполеона оказались невосполнимыми, а русские войска в конце лета 1812 г., благодаря успешно проведенной мобилизации, в том числе финансовой, стали пополняться обмундированными и вооруженными резервами. В декабре 1812 г., после изгнания французов, счет казначейства показывал военные расходы за период войны в размере 221 млн 747 тыс. руб. ассигнациями13. Расходы были покрыты только за счет эмиссии. Так как повеления комитета о выдаче сумм сопровождались указанием «из Ассигнационного банка» с обязательством последующего их возврата, этим создавалась правовая норма для изъятия из обращения этих сумм после окончания войны с Напо-леоном14.
Опыт, приобретенный И. И. Розенбергом во время войны, был востребован в казначейском ведомстве в последующие годы. После смерти 5 июля 1819 г. управляющего Экспедицией о государственных доходах К. А. Лубьяновича новый управляющий назначен не был. Д. А. Гурьев уже готовил ее преобразование в Департамент государственного казначейства [14]. Министр финансов разделил экспедицию на два отделения, поручив их в управление старшим советникам А. И. Миллеру и И. И. Розенбергу. Они оба претендовали на должность управляющего, интриговали и соперничали друг с другом. И. И. Розенберг, отличавшийся «настойчивостью, упрямством, хорошим знанием своей части», возглавил отделение, ведшее всю бухгалтерию и делопроизводство по государственной росписи, что рассматривалось чиновниками как предпочтение министра финансов. Чтобы избежать соперничества, А. И. Миллер в мае 1824 г. был назначен управляющим Государственной комиссией погашения долгов, а в октябре 1827 г. – управляющим Коммерческим банком. Эту должность он занимал до смерти 1 января 1832 г. [18, с. 690, 688].
Чиновники Экспедиции о государственных доходах понимали, что грядут преобразования, и в 1820 г. уже не сомневались, что именно И. И. Розенберг возглавит новую структуру. Действительно, после одобрения проекта реформы в Государственном совете в августе 1820 г. Д. А. Гурьев объявил о назначении И. И. Розенберга директором Департамента государственного казначейства, обосновав решение тем, что последний возглавлял в экспедиции работу по составлению государственной росписи и отчетности по движению сумм15. Будущий директор приказал всем 19 столам экспедиции законченные в дела сдать в архив, а незаконченные готовить для передачи в де- партамент. Таким образом, к концу 1820 г. в организационном и кадровом отношении все было готово для учреждения Департамента государственного казначейства. 20 мая 1821 года И. И. Розенберг официально вступил в должность директора16.
Бюджетно-сметная дисциплина в губернских и уездных казначействах за четыре военных года пришла в упадок. Позже Е. Ф. Канкрин, описывая состояние казенных палат и уездных казначейств в начале 1820-х годов, отмечал, что составление отчетов было запущено, некоторые казенные палаты не представляли отчеты «до 20 лет»17. В обществе открыто говорили, что «по министерству финансов в подведомственных частях допускались вопиющие злоупотребления… Казнокрадство… впитывало в себя государственные доходы. Но независимо от громадного вреда, наносимого казне, такое положение, такие де-морализационные примеры обогащающего безнаказанно мошенничества, имели очень вредное влияние на общественную мораль по тому закону, по которому зло имеет свойства жирного пятна, свойство расползаться во все стороны» [13].
Д. А. Гурьев знал о дезорганизации на местах, но замечал, что все попытки «приведения в прочное основание наших финансов» «мечтательны». Поступления в бюджет сократились из-за серьезных разрушений ряда городов, разорения помещичьих и крестьянских хозяйств в западных и некоторых центральных губерниях и сокращения торговли во время вторжения Наполеона. За семь послевоенных лет дефицит превысил 351,0 млн, а с учетом непокрытых расходов за предыдущие годы составил 452,5 млн руб. Разнившиеся по годам дефициты в среднем составили около 50 млн ежегодно18.
Для преодоления дефицита министр финансов считал необходимым отказаться от сверхсметных трат на военные нужды. Соображения он представил Государственному совету, но Департамент государственной экономии отказался рассматривать их, заметив, что «в России военное и мирное положение никогда с точностью не было различаемо». Александр I поддержал мнение Государственного совета. Тогда министр финансов попытался увеличить доходы государства по таможенным поступлениям. Традиционно с середины XVII в. таможенная политика носила протекционистский характер. Д. А. Гурьев выступил за свободу торговли и введение режима льготных условий ввоза иностранных товаров. В 1819 г. его усилиями был утвержден таможенный тариф фритредерского характера, снимавший запреты с иностранных товаров и понижавший импортные пошлины. Вывоз оставался на прежнем уровне, зато ввоз целого ряда фабричных изделий, в первую очередь дешевых английских тканей и железа существенно вырос. Был отменен запрет на ввоз сахара. Эти меры способствовали росту доходов государства. Обратной стороной фискального успеха стало закрытие многих отечественных фабрик. В 1822 г. под нажимом фабрикантов был введен новый тариф, надолго утвердивший протекционистские принципы экономической политики. Это стало одним из самых серьезных поражений Д. А. Гурьева, предопределивших его отставку.
Дефицит бюджета и борьба с ним Министерства финансов требовали наладить четкую работу местных казначейств. Реализация этой задачи была возложена на Департамент государственного казначейства. Под руководством И. И. Розенберга началась работа по совершенствованию казначейской системы, и уже в 1823 г. впервые был составлен «генеральный отчет по кассовой части», но казенным палатам «не доставало твердых правил об отчетности вообще, и особенно по тем частям, которые не касаются прямо казначейств». По свидетельству Е. Ф. Канкрина, в то время не имелось полных правил для Государственного контроля, в департаментах не была установлена постоянная ответственность за составление отчетов19. В казенных палатах отсутствовали подробные инструкции для внутреннего производства дел, переписка осуществлялась на основании «Генерального регламента коллегиям» Петровской эпохи и даже, как писал Е. Ф. Канкрин, по «традициям московских приказов», так как те «наставления казенным палатам», которые «дал князь Вяземский», не были опу-бликованы20.
После увольнения Д. А. Гурьева новый министр финансов Е. Ф. Канкрин признал эти недостатки в работе казначейской системы серьезными. Учитывая их, он поставил перед Департаментом государственного казначейства задачи: добиться «скорого производства… и исправного круготечения дел»; иметь «неусыпную внимательность к движению сумм»; «посредством Департамента и местных ревизий отклонить похищения сумм»; «содействовать лучшему ходу дел финансовых и Правительства вообще»; «иметь неусыпное попечение об исправности счетной и контрольной части и о постепенном оных улучшении»21. Для их исполнения каждую среду рано утром «маленький горбатый старичок И. И. Розенберг» со всеми начальниками отделений являлся к министру финансов с докладом [2, с. 90]. Результатом стало не только увеличение штата губернских и уездных казначейств, но и создание нормативных документов, легших в основу операций с наличностью вплоть до реформы кассы в 1860-х гг. При И. И. Розенберге впервые был создан пакет нормативных документов, регулировавших и совершенствовавших хранение государственных средств в местных казначействах, а также санкции в виде денежных взысканий с казначеев в слу- чае нарушения ими выработанных норм. В июле 1826 г. был опубликован указ Сенату, подтверждавший указы Петра I от 30 сентября 1700 г. и 28 января 1703 г. о взимании пени из жалованья казначеев «за несвоевременную высылку денег в те места, куда следует»22. Инициатором проекта указа явился Государственный контроль, получивший поддержку министра финансов и Департамента государственного казначейства.
Задержки с пересылкой денег были связаны с практиковавшимся еще с XVIII в. нарушением казначеями должностных полномочий. В представлении министра финансов указывалось, что казначеи на местах «под видом своей собственности» предоставляли казенные деньги «частным лицам» в ссуды, а проценты присваивали. Это злоупотребление было распространено настолько широко, что в 1829 г. Государственный совет в очередной раз рассматривал этот вопрос. В результате казначеям «во все время нахождения их в сих должностях» было запрещено заниматься ссудной деятельностью. Операции с недвижимостью могли быть произведены только с разрешения казенной палаты и на основании действующего законодательства. Все сделки, совершенные с нарушениями, аннулировались. К ответственности привлекались не только казначеи-кредиторы, но и заемщики, с которых следовало взыскивать ссуду «вдвое», собственность посредством продажи служила для «пополнения казенного взыскания». Все участники запрещенных сделок подлежали суду, «как похитители казенной собственности»23. Впоследствии Е. Ф. Канкрин отмечал, что этот нормативный документ явился важным шагом в наведении порядка в хранении денежных средств государства на местах. Он докладывал императору, что в результате «похище- ния сумм случаются редко и в небольшом виде. Губернаторы довольны положением уездных казначейств»24.
В августе 1826 г. появился указ, который на основании частного случая вводил правила взыскания утаенных государственных средств после смерти казначеев. Он предписывал взыскивать «вдвое, с тех, кто получил по наследству оставшееся» от казначеев-растратчиков «имение». В случае невозможности такового предписывалось взыскивать «с начальников их, хотя одним числом, однако с процентами по день действительного взноса в казну», так как они виновны «в упущении обязанности, на них именно по закону возложенной, при освидетельствовании, при хранении и при обрядах для приема и отправки» денежных сумм. Эти нормы распространялись «для единообразного в подобных случаях исполнения», о чем Сенат приказал дать знать всем губернским казенным палатам и другим присутствиям25. В ноябре 1826 г. по представлению Е. Ф. Канкрина Сенат утвердил указ, запрещавший казенным палатам удовлетворять контрагентов «долговыми от себя свидетельствами» вместо следующих им денег26. Этот документ интересен тем, что в нем видны результаты работы Департамента государственного казначейства, нацеленной на выявление, обобщение типичных нарушений губернских и уездных казначейств того времени и создание норм для их предотвращения. Это направление деятельности Департамента государственного казначейства сформировалось при И. И. Розенберге и неукоснительно проводилось при его преемниках.
В июне 1827 г. появился еще один результат работы Департамента государственного казначейства под руководством И. И. Розенберга. Был издан указ Сенату о правилах хранения денег, отмеченный
Е. Ф. Канкриным в отчете Николаю I. Внимание обращалось на то, что передвижение сумм как специальный «предмет» деятельности Департамента государственного казначейства требовал «особливого внимания», а имевшиеся «затруднения» были связаны с тем, что в России наличность перевозили почтой в отличие от Англии, где переводы осуществляли банки. Е. Ф. Кан-крин указывал, в России не имелось «ассигновок на главных приемщиков платежей, как во Франции, ниже удобности вексельных или других оборотов»27. Система безналичного перевода денег создана не была из-за слабого развития кредитной политики государства. Наличность в 1830–1850-х гг. по-прежнему сосредоточивалась в уездных и губернских казначействах.
Опыт Отечественной войны 1812 г. не прошел даром. В указе 11 июня 1827 г. были узаконены нормы хранения денег всех военных и гражданских ведомств28. Суммы должны быть «отдаваемы в уездные казначейства для хранения, как в особом сундуке за печатью и замком отдающего, который с тем вместе должен ответствовать и за целость суммы». Эти суммы не следовало освидетельствовать, так как они принимались «на перечет и под квитанцию». На казначеев ответственность возлагалась только в том случае, если поврежденными оказывались замок и печать и открывался недостаток в сумме. Как в 1812 г., во время транспортировки денег «благонадежные чиновники» получали предписание, какие суммы им нужно будет принимать, также они снабжались «конвойной командой» и разрешением требовать от «местных воинских и гражданских начальств, по могущей встретиться необходимости, пособия». При приеме доставленных денег уездный казначей был обязан дать квитанцию, после чего он полностью нес ответственность за сохранность казенных средств. Сугубая ответственность распространялась на уездного казначея, если он держал деньги не в казначействе, а у себя дома29.
Важнейшим итогом деятельности Департамента государственного казначейства под руководством И. И. Розенберга явился указ Сената 1829 г. о правилах отчетности о пересылаемых суммах. Характеризуя работу И. И. Розенберга, Е. Ф. Канкрин писал императору, что под его руководством Департамент государственного казначейства особо занимался проблемой «запутанности счетов в уездных казначействах», которая порождала хищения больших сумм30. В указе от 29 апреля 1829 г. отмечалось, что при сличении сумм, показанных в отчете Главного казначейства за 1826 г. и поступивших из губерний, ревизия выявила расхождения в наличных деньгах, полученных сверх ведомостей. Поскольку Государственный контроль по правилам был обязан «преследовать все пересылаемые суммы, то не показание оных приходом» породило дополнительную переписку, «затрудняющую и отдаляющую заключение отчетов». Это послужило основанием для выработки правил, обеспечивавших «предохранение пересылаемых денег от утраты»31.
Поступавшие суммы в монетах, банковых билетах и векселях следовало немедленно записывать в шнуровые книги прихода с обозначением, «какою монетою получены», и уведомлять об этом «места, откуда деньги присланы». Чиновники на основании присланных из казначейства сведений, сохраняя их, должны были показывать движение сумм в годовых отчетах. Совокупность этих документов позволяла Экспедиции для ревизии счетов Государственного контроля сличать «пересылочные суммы» по подлинным отчетам с мест, а если отчет еще не прислан, «принимать в основание удостоверение места, что о получении высланных денег имеется уве- домление». Министерство финансов, Департамент государственного казначейства и Государственный контроль считали, что такой порядок сократит «долговременную переписку» и «облегчит окончательное заключение отчетов»32.
Сохранение государственных денег «от утраты» имело значение не само по себе, а было неразрывно связано с главным направлением деятельности Департамента государственного казначейства. Е. Ф. Кан-крин определил сущность этого ведомства как «сосредоточие кассовых дел», к которому «относится… ежегодная государственная роспись доходов и расходов». Но «восстановить государственный баланс… не можно без важных сокращений расходов, частию по самому министерству финансов, частию по другим министерствам, и особенно по военному»33. В начале 1820-х гг. при Д. А. Гурьеве в Департаменте государственного казначейства «держались правила, чтобы медленно ассигновать деньги из Главного казначейства, полагая, что сие понудит министерства к большей бережливости». Но от этого, считал Е. Ф. Канкрин, не только «терялось много времени, в которое деньги находятся в дороге, но и возникали… скрытые дефициты, недоставало сумм на платежи». При этом в Главном казначействе накапливались и лежали без движения до 12 млн руб.34 Однако в течение восьми лет руководства Департаментом государственного казначейства И. И. Розенбергом эта проблема решена не была. Она находилась в компетенции высшей власти, и даже обладавший огромным влиянием на политику государства министр финансов Е. Ф. Канкрин, несмотря на все усилия, не смог ограничить рост военных расходов.
16 декабря 1829 г. И. И. Розенберг внезапно скончался в результате инсульта. Исполняющим должность директора был назначен вице-директор Департамента государственного казначейства Н. Р. Политковский.
За восемь лет управления Департаментом государственного казначейства И. И. Розенбергом были сформированы и утверждены в практической работе направления деятельности казначейской службы, ставшие основными в последующие десятилетия. Можно с уверенностью говорить, что традиции систематизации и централизации на основе разработанной нормативной базы казначейской службы, которые закладывались еще при первом Государственном казначее А. И. Васильеве, получили при И. И. Розенберге дальнейшее развитие. Первый директор Департамента государственного казначейства явился своего рода «связующим звеном» между Экспедицией о государственных доходах, первым специально созданным учреждением с казначейскими функциями, и Департаментом государственного казначейства как структурой полностью централизованного аппарата управления государственными денежными средствами и составлявшей важнейшую часть министерства финансов.
Жизненный путь и карьера И. И. Розенберга, прошедшего все ступени государственной службы, характерен для формирования слоя высшей бюрократии. Правящие круги страны, пополнявшиеся из незнатного и небогатого служилого дворянства, явились эффективным инструментом государства в процессе упорядочения и централизации деятельности государственного аппарата, в том числе в финансовой сфере. И. И. Розенберг оказался в числе ближайших помощников выдающегося министра финансов и государственного деятеля Е. Ф. Канкрина. Функционирование Департамента государственного казначейства под руководством И. И. Розенберга способствовало упорядочению финансового управления и закладывало основы для совершенствования практики составления и исполнения государственной росписи.
Список литературы Формирование основных направлений деятельности департамента государственного казначейства при его первом директоре И. И. Розенберге (1800-1820 гг.)
- Ардабацкий Е. Н. Российское казначейство в процессе исторического развития страны (XV начало ХХ в.)/Е. Н. Ардабацкий, С. Е. Прокофьев. -М., 2012.
- Божерянов И. Н. Граф Егор Францевич Канкрин, его жизнь, литературные труды и двадцатилетняя деятельность управления Министерством финансов/И. Н. Божерянов. -СПб., 1895.
- Голубев П.И. Записки петербургского чиновника старого времени П. И. Голубева/П. И. Голубев//Русский архив. -1896. -№ 3, 4.
- Государственность России. -М., 1999. -Кн. 2.
- Иванова Н. Г. Казначейская система исполнения бюджета/Н. Г. Иванова, Т. Д. Маковник. СПб., 2001.
- Ерошкин Н. П. История государственных учреждений дореволюционной России. 5-е изд., доп./Н. П. Ерошкин. -М., 2008.
- Зайончковский П. А. Правительственный аппарат самодержавной России в XIX в./П. А. Зайончковский. -М., 1978.
- Коломиец А. Г. Государственные финансы в период формирования, упрочения и кризиса российского государства (середина XVI -рубеж XIX-ХХ столетий): дисс. … д-ра экон. наук/А. Г. Коломиец. -М., 2004.
- Кубасов И. А. Александр Ефимович Измайлов. Опыт биографии его и характеристики общественной и литературной деятельности/И. А. Кубасов. -СПб., 1901.
- Приходько М. А. Особенности структурной организации центральных государственных учреждений в России в 1-й трети XIX в./М. А. Приходько. -М., 2011.
- Мироненко С. В. Самодержавие и реформы/С. В. Мироненко. -М., 1989.
- Мироненко С. В. Страницы тайной истории/С. В. Мироненко. -М., 1990.
- Пржецлавский О. В. Беглые очерки. Воспоминания О. А. Пржецлавского/О. В. Пржецлавский//Русская старина. -1883. -№ 8.
- Разманова Н. А. Д. А. Гурьев и государственное казначейство министерства финансов (1821-1831)/Н. А. Разманова//Финансы. -2012. -№ 1.
- Разманова Н. А. «Неопределенность власти и недостаток ответственности»: институт государственного казначея в 1802-1820 годах/Н. А. Разманова//Финансы. -2012. -№ 3.
- Разманова Н. А. Первый государственный казначей России/Н. А. Разманова//Финансы. -2012. -№ 2.
- Русский биографический словарь. -Т. 22. -СПб., 1910.
- Сафонович В. И. Воспоминания Валериана Ивановича Сафоновича/В. И. Сафонович//Русский архив. -1903. -№ 2.
- Троицкий С. М. Русский абсолютизм и дворянство в XVIII в./С. М. Троицкий. -М., 1974.
- Фисенко А. И. Казначейство в России. Исторические и финансово-экономические аспекты развития организации и управления (XVII -начало ХХ вв.)/А. И. Фисенко. -Владивосток, 2001.
- Шепелёв Л. Е. Аппарат власти в России. Эпоха Александра I и Николая I/Л. Е. Шепелёв. СПб., 2007.