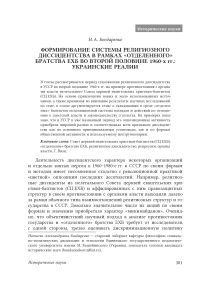Формирование системы религиозного диссидентства в рамках «отделенного» братства ЕХБ во второй половине 1960-х гг.: украинские реалии
Автор: Бондаренко Наталья Александровна
Журнал: Христианское чтение @christian-reading
Рубрика: Исторические науки
Статья в выпуске: 1 (72), 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается период становления религиозного диссидентства в УССР во второй половине 1960-х гг. на примере противостояния с органами власти нелегального Союза церквей евангельских христиан-баптистов (СЦ ЕХБ). На основе привлечения новых и мало использованных источников, а также принимая во внимание результаты научных исследований по теме, в статье аргументируется тезис о складывании в среде «отделенных» баптистов оппозиционной системы взглядов и действий по отношению к советской власти и законодательству о культах. На примерах показано, что в УССР в уже названный период эта оппозиционная активность приобрела широкий размах и соответствовала всем признакам диссидентства как по основным принципиальным установкам, так и по формам общественной активности и используемому инструментарию
Совет церквей евангельских христиан-баптистов (сц ехб), "отделенное" братство ехб, религиозное диссидентство, репрессии, органы власти, г. винс
Короткий адрес: https://sciup.org/140190269
IDR: 140190269
Текст научной статьи Формирование системы религиозного диссидентства в рамках «отделенного» братства ЕХБ во второй половине 1960-х гг.: украинские реалии
государства, а с другой — избегать панегирического отношения к названному религиозному сообществу и его лидерам на основании их преследований в советскую эпоху.
Напомним, что в начале 1960-х гг. в баптистской среде случился крупнейший взрыв возмущения. Подробно его причины мы здесь рассматривать не будем, поскольку вопрос достаточно изучен. Одним из главных последствий этого взрыва стало разделение в братстве ЕХБ1. Раскол, так или иначе, произошел в результате государственной политики по отношению к названому братству, хотя и имел целый ряд субъективных причин2. Как бы оно ни было, но в баптисткой среде возникла «выразительная и организованная оппозиция советскому законодательству о религиозных культах и деятельности органов власти в области религии»3. Это оппозиция, оформившись в нелегальное баптистское сообщество, стала одним из наиболее известных диссидентских (религиозных) направлений, которые действовали в позднесоветскую эпоху4.
Выбранная нами тема статьи рассматривается фрагментарно в значительном количестве работ как советских, так и современных украинских и российских авторов, а также в работах западных ученых. Те из них, которые были использованы для создания статьи, указаны в списке литературы и в сносках. Коротко заметим, что вопросы становления системы религиозного диссидентства в среде ЕХБ в полной мере в историографии не раскрыты.
Прежде чем сформулировать цель нашего исследования и приступить к раскрытию темы, необходимо уточнить основные понятия, которые проясняют суть такого явления, как «система религиозного диссиден-ства». Первоначально — в далеком историческом прошлом — под «диссидентами» подразумевали исключительно религиозных инакомыслящих. «Диссиденты» (от лат. dissidens — несогласные) — это верующие-христиане, не придерживающиеся господствующего вероисповедания в странах, где государственной религией являлся католицизм или протестантизм5. С середины 1970-х гг. термин «диссидент» стал применяться к гражданам СССР и других социалистических стран, которые открыто противопоставили свои убеждения господствующим там доктринам6. В нашем случае несогласные верующие (прежде всего это актив ряда местных общин) в братстве СЕХБ стали диссидентами как по отношению к руководящему органу — Всесоюзному совету (ВС) ЕХБ, так и по отношению к религиозной политике атеистического государства. В обоих случаях их правомочно именовать религиозными диссидентами, хотя ряд активистов баптистской оппозиции в своих действиях выходил за рамки чисто религиозного диссидентства.
С 1965 г. оппозиционная деятельность нонконформистского крыла баптистского братства стала приобретать системный характер. Если мы обратимся к основным признакам диссидентства, предложенным в рамках исследовательской программы НИПЦ «Мемориал» для изучения истории диссидентской активности и правозащитного движения в СССР, то увидим, что они вполне отражают оппозиционную деятельность СЦ ЕХБ.
Итак, по основным принципиальным установкам диссидентское движение — это ненасилие; гласность; реализация основных прав и свобод «явочным порядком»; требование соблюдения закона. По формам общественной активности — это создание неподцензурных текстов; объединение в независимые (чаще всего — неполитические по своим целям) общественные ассоциации; изредка публичные акции (демонстрации, распространение листовок, голодовки и пр.). По используемому инструментарию — это распространение литературных, научных, правозащитных, информационных и иных текстов через самиздат и западные масс-медиа; петиции, адресованные в советские официальные инстан ции, и «открытые письма», о бращенные к общественному мнению
(советскому и зарубежному); в конечном итоге петиции, как правило, также попадали в самиздат и / или публиковались за рубежом7.
В данной статье мы как раз и сосредоточимся на иллюстрации конкретных действий баптистских радикалов в УССР, которые отвечают всем вышеперечисленным признакам диссидентсва или же системе религиозного диссидентства в среде братства ЕХБ, которая начала складываться во второй половине 1960-х гг. Рассмотрим также религиозные и психологические мотивы и установки, детерминирующие диссидентское поведение. Обращаем внимание, что наша работа затрагивает вопросы противостояния СЦ ЕХБ с государственными органами, а не с ВС ЕХБ. Основным методическим инструментом для конструирования нашей статьи послужил проблемно-хронологический подход.
Избранный для исследования хронологический период — вторая половина 1960-х гг. — стал периодом формирования широкого диссидентского движения в СССР. Непосредственным толчком к этому, как известно, стал арест московских литераторов А. Синявского и Ю. Даниэля в 1965 г. Развитие событий на этом этапе, как справедливо утверждает И. Романкина, шло по цепной реакции: «репрессии против тех, кто наиболее активно протестовал, протесты против этих репрессий, новые репрессии и соответственно новые протесты»8. Примечательно, что то же самое можно сказать и о периоде становления религиозного диссидентства в среде баптистского братства.
Итак, в начале 1960-х гг. активисты реформаторского крыла баптистов интегрировались в «Инициативной группе по созыву съезда» (отсюда еще одно из их названий — «инициативники»), а затем — в Оргкомитете. Движение реформаторов получило массовую поддержку на местах, поскольку они первыми заговорили про внутреннецерковные проблемы и предложили пути их решения9. Их успеху способствовала близорукость советских идеологов и чиновников от религии, ошибки и вялость противодействия со стороны ВС ЕХБ10.
После ареста наиболее авторитетного лидера этой группы А. Прокофьева и его основного помощника Б. Здоровца руководящая роль перешла к Г. Крючкову и Г. Винсу. В свете украинского контекста нашей темы необходимо отметить, что А. Прокофьев в те годы проживал в поселке Волноваха Донецкой области, а Б. Здоровец был руководителем харьковской общины ЕХБ. Один же из наиболее известных в будущем баптистских диссидентов Г. Винс проживал в Киеве11. Кроме него, движение поддерживали такие известные украинские проповедники и пресвитеры, как И. Антонов, Н. Величко, М. Згурский, В. Журило, А. Кечик, Е. Коваленко, П. Оверчук, В. Походун, М. Шаптала и др. В целом, УССР была основной базой движения: здесь проживало больше трети их сторонников. На территории республики чаще всего проходили разные важные всесоюзные и межрегиональные совещания оппозиции12 .
Исторически так сложилось, что Украина по количеству общин и численности верующих занимала первое место в СССР в масштабах братства ЕХБ. На 1965 г. по официальным данным в республике действовало около 1160 общин (= «поместных церквей») братства, а численность верных достигала свыше 100 тыс. особ13 (по данным «инициа-тивников» — 120 тыс.)14. Среди них, по данным современных историков, было свыше 130 незарегистрированных общин и групп (около 3300–3500 членов)15.
В сентябре 1965 г. реформаторы начали процесс создания новой религиозной организации баптистского направления — Союза церквей. Его же координирующим органом стал Совет церквей. Председателем избрали российского баптиста Г. Крючкова, а секретарем — Г. Винса.
Последний из них был тогда одним из лидеров «Киевской гонимой церкви» — нелегальной общины «инициативников» столицы УССР. Еще одним представителем от украинских оппозиционных объединений в Совете стал пресвитер из Кировограда И. Антонов (он, кстати, сменил Г. Винса на посту секретаря СЦ ЕХБ в 1976 г., после высылки того из СССР)16.
Союз церквей со временем стал неофициально называться «отделенным» братством ЕХБ. Если принимать во внимание классификацию диссидентства, то по формам общественной активности Союз церквей во главе с Советом, по сути, стал первой массовой независимой (и нелегальной) организацией в СССР, объединившей значительную часть незарегистрированных общин17. Совет церквей начал действовать как альтернативный центр советского баптизма. В то же время после его создания реформаторы переключили большую часть своей критики с ВС ЕХБ на государство и пребывали в решительной оппозиции к власти18.
Ввиду большой численности баптистов в УССР, здесь преимущественно и развернул основную деятельность СЦ ЕХБ. Очевидно, что их противостояние на территории республики с органами власти имело решающее значение в масштабах СССР19. Принимая это во внимание, раскольники создали на Украине несколько региональных объединений «поместных церквей» Союза церквей ЕХБ: Западно-украинское, Киевское, Харьковское и Донецко-Луганское. Каждое объединение избирало свое руководство, проводило конференции, на которых обычно присутствовало два-три члена СЦ ЕХБ20. Во время пика активности движения
«инициативников» (1966 г.) они имели наибольшее влияние в Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Киевской областях21.
Программа деятельности Союза церквей была изложена в его уставе. Сразу отметим, что устав вступал в противоречие с законодательством о культах. Согласно уставу, верующие должны были проводить интенсивную религиозную пропаганду среди всех слоев населения; заниматься миссионерской деятельностью среди молодежи и детей для омоложения Церкви; быть готовыми на любые подвиги ради Христа, идти в «мир» и распространять Слово Божие, несмотря на трудности и лишения. Но как раз все это и было запрещено в СССР. Важным моментом программы оказалось подчеркивание противопоставления религиозной общины и «мирской» жизни, которая рассматривалась как сосредоточение греха, порока и безнравственности. Программа предполагала неизбежное столкновение верующих (людей «внутренних») с атеистами (людьми «внешними»)22.
Советский и российский религиовед, компетентный знаток баптизма Л. Митрохин отмечал (в 1990-х гг.), что названные направления деятельности исходили из сущности вероучения ЕХБ. Например, благовестие (т. е. миссионерская работа) рассматривалось как ключевая догматическая установка, как важнейшая обязанность верующего23. Один из главных вероучительных документов оппозиции «Общие понятия о святости и освящения» (1964 г.) пропитан, по выражению Л. Митрохина, лютеровским максимализмом. Главная идея документа — «истинный баптист» должен «отделится» от «мира» (еще и поэтому к ним применимо наименование «отделенные»), полностью отдать себя в «собственность Богу»24. В другом документе говорилось о том, что «истинные баптисты» обречены на гонения от власти: «В этом мире, где распят наш Господь, мы должны быть гонимы, если мы не в дружбе с этим миром»25.
«Инициативники» воспевали «крестные муки» как непременных спутников земной жизни, превозносили готовность к страданиям ради веры26. О. Лахно также пишет о формировании культа страданий в среде сторонников СЦ ЕХБ: «Гонения, преследования и страдания они признавали необходимым условием и жизни церкви, и отдельного верующе-го»27. Подобная констатация, основанная на анализе множества первичных источников, имеет место и в исследованиях такого компетентного украинского историка-религиоведа, как П. Бондарчук28.
Баптисты-«инициативники», особенно молодежь, считали, что поскольку они «избранные», то могут подвергаться гонениям. Веря в собственную избранность Богом, многие были готовы к испытаниям ради веры29. Этим, в частности, объяснялось их иногда откровенно провокационное поведение. Как утверждает Л. Митрохин: «Особенно воинственные лидеры и активисты СЦ ЕХБ нередко намеренно провоцировали эксцессы и столкновения, вызывающе нарушая порядок в общественном транспорте, проводя громкие молитвенные собрания в парках, зонах отдыха и т. п.»30.
И действительно, лидеры баптистов-раскольников неоднократно утверждали, что для верующих основным законом жизни должна была быть Библия, а не советские законы35.
В. Заватски делает верное наблюдение, что, по сути, баптисты (прежде всего «инициативники») с их гибким мировоззрением, прагматизмом, детерминизмом, апокалиптическими и мессианскими настроениями, требованием абсолютной преданности верующих своей церкви, пристрастием к дисциплине и организованности и социально-историческим сознанием очень напоминали членов коммунистической партии. Таким образом, поскольку баптисты и партия апеллировали к одинаково психологически настроенной аудитории, они становились серьезными конкурентами36.
Конечно, подобные вероучительные и психологические установки «отделенных» баптистов не соответствовали советскому религиозному законодательству. Они с неумолимостью должны были приводить сторонников СЦ ЕХБ к противостоянию с властью. Уже в одном из первых документов вновь созданного Совета по делам религий (СДР) от 20 сентября 1965 г. под названием «Кто такие баптисты-раскольники и чего они добиваются» отмечалось, что «главари „инициативников“ все больше выходят за пределы религиозных вопросов и объективно вступают на политически вредный путь»37.
В целом, стратегия власти заключалась в максимальной централизации управления религиозными организациями38. В СССР могли существовать только законно зарегистрированные общины, которые действовали в пределах законно зарегистрированных союзов. Другие религиозные группы, даже если они не скрывали от власти своего существования и пытались добиться регистрации, попадали в разряд религиозного подполья39. Подпольная деятельность СЦ ЕХБ, несмотря на небольшую численность верующих в масштабах страны, создавала множество проблем для органов власти. Существование нелегальной развитой организационной структуры было откровенным вызовом советской системе40. Конечно, быстрый рост «религиозного подполья» был самым нежелательным результатом для режима, который панически боялся всего, что не в силах был контролировать41. Поэтому власть надеялась покончить с оппозицией силовыми методами. Как справедливо замечает Ю. Вильховой, «перед советскими и партийными органами стояла задача: не трогая лояльной к власти части церкви ЕХБ <…>, быстро уничтожить религиозную оппозицию. Государство направляло удар прежде всего против служителей культа, которые активно поддерживали оппозицию»42.
В июне 1966 г. состоялась очередное всесоюзное совещание уполномоченных СДР. На нем в отношении СЦ ЕХБ инкриминировалось нарушение законодательства о культах, а именно: проведение нелегальных собраний, митингов и других актов в защиту религиозной свободы; издание религиозной литературы; организация денежных сборов; создание школ и кружков по обучению религии детей и подростков43. Тогдашние органы по делам религий признавали, что сопротивление раскольников переходит в затяжную фазу и угрожает массовым распространением на зарегистрированные общины44. Во втором полугодии 1966 г. для борьбы с нелегальными религиозными сообществами (прежде всего с «отделенными» баптистами) была создана специальная уполномоченная группа из представителей правоохранительных органов (КГБ, Генеральной Прокуратуры, Верховного Суда и МВД)45.
Вторая половина 1960-х гг. характеризовалась особенно интенсивным преследованием лидеров СЦ ЕХБ. В Украине репрессии после годичного затишья возобновились в октябре 1965 г. Особый размах репрессивные меры получили в Харьковской, Сумской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Крымской областях46. Значительные преследования верующих «Киевской гонимой церкви», как свидетельствует один из тогдашних молодых лидеров этой общины Н. Величко, произошли в течение трех недель в конце мая — начале июня 1966 г. Тогда было задержано свыше 180 человек, из них отбыли по 15 суток 64 верующих, на других 117 человек были наложены денежные штрафы в размере 25–50 руб. Кроме того, 7 человек были арестованы, и против них были возбуждены уголовные дела47. Всего в 1966 г. было арестовано и приговорено к различным срокам заключения более 40 активистов, представляющих общины УССР. В их числе Г. Винс, П. Оверчук, В. Журило, Н. Величко, А. Кечик, В. Похо-дун и др.48 Аресты продолжались и в 1967 г.49 Как считал В. Заватски, возобновление гонений было связано с возникновением движения «светских» диссидентов50.
Наиболее распространенными методами властных притеснений, кроме арестов, были избиения и разгон молитвенных собраний, административные взыскания с верующих. На квартирах верующих без санкции прокурора проводились обыски, во время которых изымалась религиозная литература, магнитофоны, музыкальные инструменте (необходимые для богослужения) и др. Иногда конфисковались и молитвенные дома. В СМИ регулярно помещались оскорбляющие достоинство верующих статьи. Многих баптистов дискриминировали на местах их работы, понижая в должности, снижая заработную плату, лишая премий, отодвигая их в очереди на получение квартиры и т. п.51
Дети верующих в школах подвергались преследованиям со стороны учителей и работников органов госбезопасности. Немало было случаев лишения родительских прав. К тому же в высших учебных заведениях в перечень основных дисциплин включили атеизм, создав препятствие для получения верующими образования52 . Широкое распространение имели общественные суды, где верующих позорили перед односельчанами или коллегами по работе53. Чаще всего среди административных мер наказания за незначительные нарушения законодательства о религиозных культах применялись штрафы. Наиболее активные верующие подвергались штрафам чаще54.
Отметим, что ожесточенность и стойкость лидеров СЦ ЕХБ в противостоянии с органами власти объяснялась, в частности, тем, что они или их родственники пострадали от режима за свою веру. Приведем соответствующие факты только из биографий духовных вождей киевской общины СЦ ЕХБ («Киевской гонимой церкви»). Так, наиболее известный баптистский диссидент, секретарь СЦ ЕХБ, проповедник этой общины Г. Винс, который впоследствии на Западе стал олицетворять всех верующих, страдающих в Советском Союзе от гонений55, происходил из баптистской семьи, которая изначально конфликтовала с властью. Его дед, Я. Винс, был американским пресвитером баптистских общин советского Дальнего Востока и эмигрировал в США, а отец, П. Винс, входил в руководство Союза христиан-баптистов, был репрессирован в 1930-х гг. и умер (или был расстрелян), когда находился в за-ключении56. Показательно, что сын Г. Винса, Петр (названный в честь деда), в 1976 г. вошел в состав диссидентской Украинской Хельсинской группы, которая провозгласила борьбу за права человека своей основной и первоочередной задачей57.
Четыре других проповедника этой общины получили сроки заключения еще в сталинские времена. Е. Коваленко отсидел в лагерях два раза:
в 1941–1944 гг. и в 1951–1955 гг.; братья Згурские (Марцин и Марьян) провели в заключении 10 лет (в 1937–1947 гг.); П. Медведок — в 1945–1948 гг.58 Подобные факты можно привести относительно руководителей других нелегальных общин ЕХБ Украины.
Жесткие действия органов власти вызывали противодействие со стороны «отделенного» братства ЕХБ. Это сопротивление чем дальше, тем больше приобретало формы, характерные для советских диссидентов: мониторинг нарушений прав верующих, различные обращения, открытые письма в высшие органы власти и в международные организации, мирные демонстрации и пикеты и т. п. Баптистские оппозиционеры, в отличие от радикалов других позднепротестантских конфессий, уделяли большое внимание информационной борьбе и пропаганде своих идей. Они, например, изначально наладили выпуск специальных информационных изданий — братских листков. Это были рукописные листы, которые размножались верующими и в большом количестве тиражировались в общинах ЕХБ. Технически их размножали на гектографах. Таким же образом распространяли различные открытки, послания, коллективные обращения и т. п. Впоследствии листки стали регулярными изданиями под постоянным названием «Братский листок». Этот журнал, а также журнал «Вестник спасения» стали официальными информационными рупорами СЦ ЕХБ59 .
В названных выше нелегальных изданиях, в различных листовках и в других материалах верующих призывали не соблюдать советское законодательство о религиозных культах, требовать от власти отказаться от атеистического воспитания детей в школах, отменить законы, которые ограничивали свободу вероисповедания в СССР60. Подчеркнем, что все эти периодические издания и материалы выпускались не официально, а «самиздатом».
Образцовую и масштабную диссидентскую работу проводили, например, молодые активисты «Киевской гонимой церкви». Они занимались печатным и переплетным делом, находили конспиративные дома и квартиры (для организации того же печатного дела и хранения литературы), перевозили «самиздатскую» и «тамиздатскую» литературу в другие регионы, совершали многочисленные миссионерские и координационные поездки по областям и регионам. Община была одним из главных в СССР застрельщиков и организаторов проведения различных баптистских встреч, совещаний, форумов и т. п.61
Характерными для диссидентства были и следующие формы. После каждого разгона органами правопорядка религиозных собраний (естественно, незаконных) во властные инстанции направлялись соответствующие ходатайства с настоятельной просьбой о прекращении репрессий и об освобождении незаконно задержанных единоверцев. Нередко с подобными просьбами представители общин шли прямо в органы прокуратуры62. Подобное происходило и после закрытия молитвенных домов63.
Среди методов оппозиционной общественной активности, применявшейся даже чаще, чем у «светских» диссидентов, были мирные демонстрации. Одной из первых демонстраций / пикетирований сторонниками Совета церквей стала экстраординарная акция, которая состоялась 16 мая 1966 г. у здания ЦК КПСС в Москве. Демонстранты (общей численностью 450–500 человек) протестовали против гонений и вмешательства государства в дела Церкви, требовали разрешения на созыв съезда, признание СЦ ЕХБ, право на религиозное обучение и т. п.64 Это была исключительная и не имеющая аналогов акция для советского времени. По своей форме, количеству участников и длительности ее правомерно сравнить с современными «майданами». Информация о происшествии просочилась в иностранную прессу и получила широкий резонанс в мире65. Подобные выступления верующих состоялись в те дни и в Киеве66.
Одним из оригинальных методов мирной борьбы с властью были сугубо религиозные демонстрации. По согласованию они проводились в один день, но в разных местах республики. Например, 22 августа 1965 г. баптисти-раскольники из нескольких областей организованной колонной, распевая религиозные песни, прошли от железнодорожной станции пос. Щетово (Луганская область) в дом своего единоверца. В тот же день подобное шествие состоялось и в г. Запорожье: группа верующих, также распевая песни, прошла к заливу р. Днепр по улицам города, на которых остановилось движение автотранспорта67. Иногда демонстрации проходили не совсем мирно. Так, 12 сентября 1965 г. в с. Шевченково, Килийского района, Одесской области, 700 сторонников «отделенного» братства ЕХБ шли селом, распевая религиозные песни. Когда же начальник милиции предложил остановить шествие, верующие набросились на него и на других сотрудников милиции, срывали с них фуражки, погоны, драли одежду с криками: «Где свобода?», «Это ваша Конституция?!», «фашисты», «грабители». Следует заметить, что акцию спровоцировали власти, закрыв немногим раннее молитвенный дом в этом селе68.
Имеются и другие примеры, свидетельствующие о провоцировании акций «отделенных» органами власти по причине их некомпетентности и недальновидности. Так, например, одну из демонстраций, произошедшую в Киеве во второй половине 1960-х гг., спровоцировали из-за своей нерасторопности работники КГБ. Во время богослужения в лесу на станции Малютенка под Киевом, которую проводили пресвитеры и проповедники «Киевской гонимой церкви», милиция и КГБ пытались задержать актив этой общины (Г. Винса, Н. Величко, И. Бондаренко и др.). Но благодаря защите своих лидеров со стороны верующих этого сделать не удалось. Возглавлявший эту операцию работник КГБ попытался продолжить попытки задержания несколько раз — на платформе электричек, при въезде в Киев и т. д. Как вспоминает Н. Величко, у гебиста, возглавлявшего операцию, не хватило ума, чтобы вовремя остановиться. Вместе с руководителями масса верующих, их окружавшая и не дававшая их задержать, хлынула на привокзальную площадь города. Поскольку работники силовых структур продолжали попытки задержать актив общины, то в результате вынудили это скопление верующих продолжить путь по Киеву от вокзала по центральным улицам, что вылилось, по сути, в демонстрацию. Когда верующие вышли на бульвар Т. Шевченко, то там им «дали настоящий бой», как сообщает Н. Величко: «Там уже дали заслоны поперек дороги, а мы шли по проезжей части, потому что многие не помещались на тротуары. И там арестовали ряд братьев и дали по 15 суток, в том числе и Винсу. <…> Это все было спровоцировано наглым действием КГБ»69.
С другой стороны, органы власти тоже обвиняли активистов и верующих Союза церквей ЕХБ в том, что они провоцируют их применять репрессивные меры. Провоцирование же вызывали такие действия баптистов: коллективное пение псалмов в общественном транспорте и на его остановках; религиозные походы под открытым небом; богослужения на улицах и площадках, в лесу, в помещениях, принадлежащих государственным учреждениям; проведение специальных (запрещенных законом) богослужений для детей, подростков и молодежи; создание специальных групп и школ для обучения детей религии; проведение без разрешения органов власти массовых собраний и совещаний небогослужебного характера с приглашением верующих из многих сел, городов, областей и республик и т. п.70
Актив «отделенного» братства ЕХБ проводил значительную часть своих собраний, совещаний и т. п. в УССР. На них поднимались вопросы выработки стратегии и тактики сопротивления действиям власти, обсуждались документы Совета церквей, реакция на них со стороны властей, принимались соответствующие протестные и другие резолюции и т. п. Например, широкий резонанс приобрело совещание 22 мая 1965 г. в с. Боровая, Фастовского района, Киевской области. В его работе приняло участие 200 человек. 24 октября 1965 г. прошло собрание духовного руководства «нелегалов» от ряда областей УССР, которые решительно осудили действия властей, связанные с избиением делегации СЦ ЕХБ в Москве71. Регионально более представительное совещание состоялось в Киеве 12 января 1966 г. На нем выступили с докладами практически все лидеры «инициативщиков» всесоюзного масштаба72.
Большинство из активных деятелей «отделенного» братства составляла молодежь. Понятно, что и работу среди молодежи проводили они же. Одним из молодых лидеров Союза церквей был киевский проповедник И. Бондаренко. По его инициативе было проведено немало молодежных собраний в том же Киеве и в других городах Украины, а также в прочих республиках СССР. На них собирались тысячи людей73. Так, первое серьезное беспокойство органов власти вызвало массовое собрание («форум») молодежи из разных регионов СССР, которое состоялось 5 сентября 1965 г. в лесу возле станции «ДВРЗ» (г. Киев). Согласно баптистских данных, на форуме присутствовали более 2 тыс. человек74.
Если молодежный форум возле станции «ДВРЗ» в 1965 г. прошел без эксцессов, то подобное собрание, проводившиеся там же, но уже в мае 1966 г., было разогнано. Ведь тогда уже органы власти взяли курс на подавление движения «отделенных» баптистов силою. Однако верующие в 1966 г. оказали физическое сопротивление милиции, которое кончилось массовыми арестами75. В декабре 1968 г. и в январе 1970 г. в Киеве состоялось несколько массовых собраний «отделенных» (по 300–400 человек) по поводу возвращения из мест заключения активных членов братства В. Шупертяка и П. Оверчука. На их встречу съехались представители из многих мест. На встречах раздавались открытые призывы бороться против действующего законодательства о религиозных культах76.
Массовые собрания нелегальных общин в основном и проводились в лесах77, причем по возможности каждый раз на новом месте. Необходимость в постоянной перемене мест проведения богослужений под открытым небом была вызвана тем, что власти регулярно разгоняли собрания, привлекая для этого милицию, дружинников, сотрудников спецслужб78.
С середины 1960-х гг. баптистские оппозиционеры начинают создавать свои правозащитные организации. Еще в 1964 г. в Москве была создана правозащитная организация Совет родственников узников евангельских христиан-баптистов (Совет РУ ЕХБ). В 1966 г. ее возглавила Л. Винс, мать секретаря Совета церквей Г. Винса, активная верующая «Киевской гонимой церкви». Совет развернул работу по сбору информации о судьбе заключенных верующих. Его члены оказывали материальную поддержку семьям осужденных, информировали мировую общественность о фактах притеснения верующих и т. п.79 Начиная с 1967 г. Совет РУ от своего имени регулярно распространял «Чрезвычайные сообщения», где давал краткую информацию о новых арестах и судах над верующими «отделенного» братства, об открытии уголовных дел, о преследованиях, разгонах собраний и специфике содержания узников совести в лагерях и др., а также анализировал судебные приговоры, сообщал о случаях допросов детей и репрессий в их отношении, лишения родительских прав из-за религиозного воспитания детей в семьях и т. п.80
В 1969 г. на I съезде Совета РУ ЕХБ был принят ряд обращений, направленных в адрес христиан всего мира, а также христиан СССР. В них акцентировалось внимание на преследовании советских граждан за их веру и убеждения81.
Необходимо отметить, что Л. Винс привносила в работу Совета РУ излишний радикализм, имевший мало общего с христианскими установками, но характерный для диссидентского правозащитного движения. Об этом, в частности, свидетельствует авторитетный пресвитер Хар-цызской общины (Донецкая область) М. Шаптала. (В 1966 г. именно его на совещании в г. Иловайск Донецкой области активисты «отделенного» братства ЕХБ, оставшиеся на свободе, избрали председателем Совета церквей вместо арестованного Г. Крючкова82. За время его руководства Союзом в 1966–1969 гг. основные совещания Совета церквей и Совета РУ ЕХБ проводились как раз в Киеве). М. Шаптала отмечает по поводу деятельности Л. Винс следующее: «…дошло до того, что Совет родственников узников стал диктовать условия правительству. Доложите по такому-то адресу, примите меры и т. д. Я говорю: „Кто же мы такие, чтобы нам докладывали? Вы забываетесь, в какой мы стране находимся“»83.
Резкость посланий руководства Совета РУ по отношению к государственным и партийным органам, которая проявлялась в различных обращениях и заявлениях, подтверждает и Н. Величко84.
Первый лидер «инициативщиков» А. Прокофьев вообще считал, что СЦ ЕХБ чрезмерно увлекся правозащитно-политической деятельностью. Из следственного изолятора он направил письмо — послание верующим «отделенного» братства ЕХБ (датируется 12 августа 1966 г.). В нем говорилось, в частности, следующее: «Прежде всего мы увлеклись бумажной перепиской и всякого рода ходатайствами об освобождении узников и проведении съезда. Наши протесты выливались в конфликты с органами советского правительства. <…> Советское правительство имеет закон наказывать, если мы производим возмущение, а еще хуже, если оказываем сопротивление силою, тогда как наша кротость должна быть всем известна. <…> Обратиться к правительству можно, указать на допущенные несправедливости нужно, но выпрашивать, требовать, конечно, нельзя, а тем более производить возмущение, конфликты»85.
С другой стороны, именно репрессивные действия власти обуславливали зачастую усиление антисоветской деятельности баптистов86. Уполномоченный по УССР от СДР К. Литвин указывал в то время: «Несмотря на изоляцию главарей т. н. „Совета Церквей ЕХБ“, прекратить антисоветскую деятельность раскольников полностью не удалось…» Они, в частности, продолжают «подстрекать рядовых верующих писать различные письма в союзно-республиканские и правительственные органы, а также в ООН демагогические, клеветнические заявления на наше законодательство, на политику партии»87. Примером подобного послания может служить открытое письмо украинского баптиста-диссидента А. Ковальчука (г. Ровно) к Л. Брежневу, впервые опубликованное в августе 1967 г. в одном из американских журналов. В нем в преследованиях «инициативников» обвинялось высшее политическое руководство страны. «Теперь, — отмечал А. Ковальчук, — стало очевидно, что этой физической борьбой против церкви руководит ЦК КПСС, так как только он считает нас за своих врагов и в своих решениях наметил и пообещал в кратчайшие сроки покончить с церковью»88. Кстати, в известном информационном бюллетене правозащитников «Хронике текущих событий» первым упоминанием о баптистах-«инициативниках» вообще стала публикация именно открытого письма. Оно было написано от имени «Киевской гонимой церкви» и в защиту арестованного в 1966 г. Г. Винса89.
На вторую половину 1960-х гг. приходиться и начало интереса западных политических и религиозных деятелей, ученых к движению «ини-циативников». Тогда же устанавливаются первые контакты СЦ ЕХБ с За-падом90. Примечательно, что на 1965 г. — год создания СЦ ЕХБ и начала широкого диссидентского движения в СССР — приходиться создание в г. Версуа (Швейцария) «Института научного изучения религиозной информации». Основной целью деятельности этого заведения, по версии КГБ, стал сбор и обобщение достоверной религиозной информации из СССР и других стран социализма. Об этом говорилось в информационном сообщении органов в ЦК КПУ91.
В том же 1965 г. у каноника Англиканской церкви и ученого-советолога М. Бурдо зародилась идея о создании в Великобритании научно-исследовательского центра по изучению религии в странах социалистического лагеря. Последний был создан в 1969 г. — «Центр по изучению религии и коммунизма», который позже стал именоваться «Кестон Колледж»92. В своей книге «Religious Ferment in Russia: Protestant Opposition to Soviet Religious Policy», изданной в 1968 г. и посвященной преимущественно движению «инициативников», пастор М. Бурдо одним из первых сделал вывод о том, что это движение «оставило сферу узко-церковного значения и заняло место в современной политической истории СССР»93.
Итак, во второй половине 1960-х гг. в СССР возникла массовая независимая религиозная организация диссидентского типа — Союз церквей ЕХБ, которая в силу своих вероучительных и других установок повела активную мирную борьбу со своим идеологическим противником — атеистическим государством — за право жить по своей вере. Незаконность как структур раскольников, так и действий членов «отделенного» братства вынуждала органы власти применять репрессивные меры. В свою очередь, гонения детерминировали ответное противодействие и толкали «иници-ативников» на конфронтацию по диссидентскому типу. В этот период оппозиционная деятельность баптистских радикалов стала приобретать вид типично советского диссидентства, хотя и более массового, чем «светское», и складываться в систему. Как видим, в УССР эта активность приобрела широкий размах и соответствовала всем признакам диссидентства как по основным принципиальным установкам, так и по формам общественной активности и используемому инструментарию.