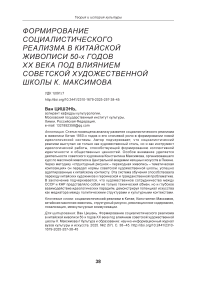Формирование социалистического реализма в китайской живописи 50‑х годов ХХ века под влиянием советской художественной школы К. Максимова
Автор: Ван Цишэнь
Журнал: Культура и образование @cult-obraz-mguki
Рубрика: Теория и история культуры
Статья в выпуске: 2 (57), 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу развития социалистического реализма в живописи Китая 1950‑х годов и его ключевой роли в формировании новой идеологической системы. Автор подчеркивает, что социалистический реализм выступал не только как художественный стиль, но и как инструмент идеологической работы, способствующий формированию коллективной идентичности и общественных ценностей. Особое внимание уделяется деятельности советского художника Константина Максимова, организовавшего курс по масляной живописи в Центральной академии изящных искусств в Пекине. Через методику «структурный рисунок – переходная живопись – тематическая композиция» он передал нормы советской художественной школы, успешно адаптированные к китайскому контексту. Эта система обучения способствовала переходу китайских художников к героической и гражданственной проблематике. В заключение подчеркивается, что художественное сотрудничество между СССР и КНР представляло собой не только технический обмен, но и глубокое взаимодействие идеологических парадигм, демонстрируя потенциал искусства как медиатора между политическими структурами и культурными контекстами.
Социалистический реализм в Китае, Константин Максимов, китайская масляная живопись, структурный рисунок, революционное содержание, локализация, межкультурные коммуникации
Короткий адрес: https://sciup.org/144163501
IDR: 144163501 | УДК: 1(091):7 | DOI: 10.2441/2310-1679-2025-257-38-45
Текст научной статьи Формирование социалистического реализма в китайской живописи 50‑х годов ХХ века под влиянием советской художественной школы К. Максимова
С установлением дипломатических отношений на основе Договора о дружбе, союзе и взаимной помощи между КНР и СССР от 14 февраля 1950 года китайская сторона получила не только политическую защиту и экономическую поддержку, но и беспрецедентный доступ к советскому культурно-образовательному опыту. В это время в Китае остро ощущалась нехватка системного обучения реалистической живописи: до 1950-х годов профессиональная подготовка по масляной живописи велась фрагментарно, главным образом под влиянием практики «мастер-классов» и частных школ, тогда как системный академический курс, подобный западноевропейскому, только начинал формироваться. В этих условиях в феврале 1955 года советское правительство направило в Пекин профессора Константина Ме́фодьевича Максимова (1913–1993), признанного мастера соцреализма и двукратного лауреата Сталинской премии, который прибыл в качестве руководителя и консультанта только что созданного в Центральной академии изящных искусств (CAFA) двухлетнего учебного курса по масляной живописи [5, с. 256]. Уже в первые месяцы своей работы Максимов совместно с администрацией CAFA разработал «идеологическо-художественный стандарт по масляной живописи» (1955), в котором была чётко структурирована программа из трёх компонентов – рисунок, колористика и творческая практика. На тот момент в обучении применялось понятие «структуры» в духе системы Чистякова [3, с. 215], а также – монохромной «переходной живописи» для выработки навыков работы со светотеневыми отношениями; идеологическая составляющая подразумевала принцип «искусство служит политике» и настоятельный призыв к «выделению типичного» через погружение в жизнь народа. Именно сочетание политической функции искусства и системного технического тренинга, введённого Максимовым, стало отправной точкой для перехода китайской масляной живописи от прежней, частной практики к единой государственной образовательной системе, что заложило основу для формирования «революционного содержания в национальной форме» [1, с. 19–27].
В качестве главных архивных материалов при изучении данного этапа развития китайской живописи нами привлекались программно-методические документы и лекционные конспекты 1955–1957 годов из фондов Центральной академии изящных искусств (CAFA Archive), а также – устные истории участников класса художников Жана Цзяньцзюня (интервью 1985 года) и Фэн Сюэфэна (интервью 1990 года), хранящиеся в собрании Oral History CAFA. Среди монографий опирались на труд Си Цзинчжи «Максимов» (2010) и автобиографию Цзинь Шаньи и Цао Ханьвэня «Мой путь к масляной живописи» (2000); для теоретического обоснования использовались статьи Гу Ли (2013) «Принятие и трансформация творческого принципа социалистического реализма…» и Фэн Фаси (1955) «Быть мыслящим художником». Для анализа применялись историко-архивный метод, дискурсивный анализ идеологических установок и иконографический сравнительный анализ выпускных работ.
В январе 1957 года Центральная академия изящных искусств официально опубликовала первую редакцию «Учебного плана по масляной живописи», в которой впервые системно зафиксирована триединая структура учебного процесса: «структурный рисунок – колористика – практика». В тексте плана, разработанном при участии профессора К. М. Максимова и пекинских методистов, подчёркивалось, что именно такая трёхкомпонентная схема обеспечивает целостное овладение – как пластическими приёмами, так и идеологическим наполнением соцреалистического искусства [7, с. 7–9.].
Одновременно «идеологическо-художественный стандарт» определил довольно жёсткий пятичасовой ежедневный режим занятий: два часа отводилось на глубокий структурный анализ предмета в рисунке (включая черепно-мышечный аппарат и пространственное построение), три часа – на практическую отработку техники масляной живописи (монохромная переходная живопись, колористические исследования). Такой распорядок, с одной стороны, гарантировал студентам постоянное совершенствование навыков, а с другой – способствовал погружению в партийно-идеологическую программу «искусство служит политике»: в течение каждого дня занятия начинались с обязательного доклада о «новостях социалистического строительства» и обсуждения тематических эскизов, посвящённых текущим производственным задачам [8, с. 34].
С февраля 1955 года, сразу после прибытия в Пекин, К. М. Максимов приступил к внедрению в идеологическо-художественный стандарт CAFA принципов «структурного рисунка», унаследованных от Павла Петровича Чистя-кова1 (1831-1919). Уже к маю 1955 года в «идеологическо-художественный курс по масляной живописи» были по сути своей введены ежедневные занятия, на которых студенты шаг за шагом разбирали поэтапное «разложение» натурного предмета на базовые геометрические формы (цилиндр, куб, сфера) с обязательным учётом костяка и мускулатуры. Такой метод анализа как раз и позволял добиться не просто точного силуэта, но и глубинной пластической убедительности объёмов.
Параллельно, начиная с осени 1956 года, Максимов ввёл практику монохромной (гризайль), рассчитанную на формирование умений работать с градациями света и тени без отвлечения на цветовые нюансы. В течение трёхмесячного курса студенты сначала выполняли линейно-масштабные эскизы в одной ахроматической тональности, а затем последовательно добавляли локальные колористические акценты, чтобы научиться «видеть» форму и освещение как неделимое целое. Данная техника, призванная устранить привычку «отделять» цвет от тонального рисунка, сразу же оказалась ключевым звеном при переходе к полноценной работе в масле и легла в основу всей последующей программы колористики CAFA [11, с. 186–223].
В середине 1950-х годов в практике Центральной академии изящных искусств окончательно утвердился идеологический принцип «революционного содержания + национальной формы». Уже в мае 1953 года, вернувшись из второго визита в СССР, Сюй Бэйхун говорил о том, что советское искусство представляет собой «социалистическое содержание, национальную форму», ставшее образцом для подражания в Китае. Под этим девизом в работах ведущих художников CAFA конца 1950-х годов – например, у Дун Сивуня в «Церемония основания государтсва» (1953) и Ши Лу в «Передислокация в северный Шэньси» (1954) – сочетались масштабный исторический нарратив, монументальная композиция и характерные для китайской традиции плоскостные заливки цветом и декоративные мотивы.
Уже в первых выпускных выставках (1957, 1960) почти все дипломные работы были по сути своей посвящены образам строителей и рабочих, сим- волам социалистического строительства. Как отмечает исследователь Инь Шуаньси, в творчестве художников CAFA этого периода системно появлялись сцены коллективного труда – металлургов, трактористов, строителей плотин и гидростанций, что подчёркивало реальную связь искусства с повседневным жизненным опытом новоявленных трудовых героев. Так, серия этюдов У Шу-юнь, выполненная на строительстве плотины Три ущелья («Водоем назван в честь кладбища тринадцатого императора династии Мин», 1956–1957), демонстрирует не только мастерство пространственного моделирования и структурного рисунка, но и монументальную драматику массового труда, ставшую характерной чертой социалистического реализма в Китае.
Внедрение триединой структуры подготовки и жёсткого идеологического курса по сути своей очень прямо отразилось на качестве и содержании выпускных работ конца 1950-х и начала 1960-х. Технические нововведения – «структурный рисунок» и монохромная «переходная» живопись – создали у студентов чёткое представление о связи формы и света, что позволило единообразно воспроизводить пространственные конструкции, характерные для соцреалистического стиля. Но все же наиболее существенным стало изменение творческих установок: от камерных сюжетов и «бытового» ландшафта школа перешла к масштабным историческим эпопеям, концентрировавшимся на образе народа как движущей силы прогресса [4].
Идеологическое обоснование «искусство служит политике» и доктрина «революционного содержания и национальной формы» обладали по сути двумя плюсами одновременно: они требовали от художника чёткого отражения государственно значимых тем (стройки, социалистического индустриализма, торжественных митингов) и в то же время предусматривали сохранение элементов традиционной эстетики (рельефные цветовые заливки, декоративные мотивы, «плоскостная» композиция). Подобный баланс в итоге и обеспечивал не только чисто визуальную достоверность, но и национальную идентификацию, и в итоге героическая повседневность китайского народа оказывалась подана не как простая копия советского образца, а как «борьба по-китайски» с использованием родных культурных кодов [2, ф. 12, оп. 3, ед. хр. 45].
Однако уже к началу 1960-х стало очевидно, что строгие рамки тематического заказа и идеологический контроль на самом деле неизбежно ограничивают творческую инициативу. Появляются первые жалобы студентов на «однообразие сюжетов» и «штампованность композиционных решений» [10, фонд 7, ед. хр. 112.]. В репрезентативных работах того периода проявляется мастерство владения материалом, но всё чаще возникает ощущение «декоративного повторения» индустриальных тем [8, с. 34].
Система партийно-идеологического руководства в художественной сфере, восходящая к резолюциям Яньаньского форума по литературе и искусству (2 мая 1942 года), где Мао Цзэдун впервые провозгласил принцип «искус- ство служит рабочим, крестьянам и солдатам», обеспечила доминирование партийного заказа над эстетическими поисками. В последующие годы это положение было подтверждено серией официальных документов и выступлений: в мае 1951 года Чжоу Ян в Центральном литературном институте предписывал «усилить перевод и пропаганду» социалистического реализма как «духовной пищи для народа»; в сентябре 1953 года Фэн Сюэфэн назвал его «основным методом творчества и критики» [6, № 1].
Однако системная «диктатура содержания» вскоре показала свою несостоятельность при учёте богатства китайской культурной традиции: уже в июле–августе 1958 года на теоретическом совещании в Хэбэйской партшколе Мао Цзэдун выдвинул идею «двойного сочетания реализма и романтизма» как способа сохранить партийный курс, но при этом включить в искусство элементы народных и классических форм. Финальной институционализацией этого подхода стала III Всекитайская конференция литературы и искусства (22 июля – 13 августа 1960 года), где в докладе Чжоу Яна «Путь социалистической литературы и искусства в Китае» метод двойного сочетания был по сути своей объявлен «наилучшим методом творчества», официально заменив прежнюю «теорию социалистического реализма».
В итоге получилось, что за менее чем двадцать лет партийная художественная политика прошла путь от прямого подчинения искусства политическим задачам к более гибкой стратегии, предполагающей синтез «революционного содержания» и «национальной формы» через сочетание реалистических и романтических начал. Это, конечно же, и создало теоретическую основу для дальнейшей локализации социалистического реализма в китайском искусстве [8, с. 34].
Политика «пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто школ», провозглашённая Мао Цзэдуном 28 апреля 1956 года на расширенном заседании Политбюро ЦК, стала ключевым механизмом смягчения догматического принципа [4] «искусство служит политике» и стимулирования творческой диверсификации в китайском искусстве. Впервые с Яньаньского форума (1942) государство разрешило художникам не только следовать образцам социалистического реализма, но и свободно заимствовать из национальных традиций – от техники тушевой заливки до композиционных приёмов классической «литературной живописи». В результате на уровень официальной художественной практики была поднята локальная адаптация соцреализма, создавались праздничные полотна на тему строительства социализма, которые сочетали монументальную монографичность портрета трудящихся с декоративными мотивами дуньхуанских фресок, проходят дебаты о гармонии народного и партийного в сюжетах и форме.
Технические заимствования, внедрённые Максимовым (структурный рисунок, монохромная эстетика) и эволюционировавшие в CAFA, получили по сути своей в новых условиях некую возможность интеграции с нацио- нальным художественным языком. Так в образцовой картине Дун Сивуня «Церемония основания государства» (1953) архитектурный скелет, отточенный по методике Чистякова, перекликается с плоскостными цветовыми заливками, заимствованными из традиции китайской декоративной живописи. Параллельно «Румынский класс» Эуґена Попы (1961–1962) внёс элементы модерна: «революцию линии» (энергетическая контурная рисунка) и «эмоциональную выразительность цвета» (контрасты холодных и тёплых тонов), что активизировало поиск синтеза европейских техник и местных эстетических кодов.
Долгосрочным последствием этих процессов стала прочная методологическая основа, на которой в эпоху реформ и «открытости» после 1978 года выстроились многоплановые эксперименты: плюралистический реализм 1980–1990-х, «новая волна» и поверхность личной символики, опирающиеся на академические навыки структурного анализа и работы со светом и цветом CAFA. В XXI веке ведущие кафедры CAFA продолжают преподавать «структурный рисунок» и колористику по «монохромному переходу», одновременно поощряя студентов к творческому синтезу идеологического и национального, что демонстрирует живучесть и универсальность методики, заложенной в середине 1950-х годов.
Таким образом, система Максимова стала катализатором перехода от эстетики к идеологии институционализации социалистического реализма в Китае. Она была по сути своей катализатором перехода от разрозненных мастерских к единой академической парадигме художественного образования. Созданный в 1957 году единый идеологическо-художественный стандарт, включавший структурный рисунок, колористику и творческую практику, довольно надёжно закрепил в учебных программах Центральной академии изящных искусств и ряда региональных вузов стандарты, позволившие молодым художникам быстро освоить и тиражировать наиболее эффективные приёмы реалистической живописи. Технические новшества – глубокий анализ анатомии и пространственной формы по методике Чистякова и освоение монохромной «переходной» живописи для формирования единства объёма и света в сочетании с жёстким идеологическим курсом («искусство служит политике», «революционное содержание и национальная форма») – радикально изменили как художественный язык, так и тематические приоритеты масляной живописи в Китае.
Полученные результаты демонстрируют модель успешного культурного переноса, когда совместная работа советских и китайских педагогов не просто повторила зарубежную доктрину, но адаптировала её под местные реалии и традиции. В сочетании глобальной идеологической установки и национальных эстетических представлений родилась уникальная методика обучения, обеспечившая переход от частной, фольклорно-академической практики периода до 1949 года к современным академическим стандартам.
Безусловно, деятельность Максимова демонстрирует, что художественная система может стать инструментом идеологической трансформации и носителем культурной адаптации в условиях интенсивного культурного обмена.
Изучение опыта Максимова не только углубляет историческое знание об искусстве живописи в Китае, но и предоставляет новые концептуальные рамки для изучения процессов культурного и идеологического заимствования.