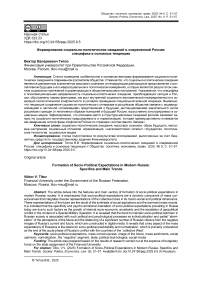Формирование социально-политических ожиданий в современной России: специфика и основные тенденции
Автор: Титов В.В.
Журнал: Общество: политика, экономика, право @society-pel
Рубрика: Политика
Статья в выпуске: 9, 2025 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена особенностям и основным векторам формирования социально-политических ожиданий в современном российском обществе. Отмечается, что социально-политические ожидания являются динамичным компонентом массового сознания, интегрирующим разнородные представления о коллективном будущем в его макросоциальном и политическом измерениях, которые являются результатом синтеза социальных притязаний и доминирующих в обществе массовых настроений. Указывается, что специфика и психоэмоциональная направленность социально-политических ожиданий, преобладающих сегодня в России, обусловлены такими факторами, как рост внутренней социально-экономической неопределенности и эскалация геополитической конфликтности в условиях проведения специальной военной операции. Выявлено, что тенденция сохранения социально-политического оптимизма в российском обществе связана с индивидуализацией и частичной «атомизацией» представлений о будущем, дистанцированием значительного числа российских граждан от негативных образов нынешней и будущей России, искусственно конструируемых в социальных медиа. Зафиксировано, что ключевое место в структуре массовых ожиданий россиян занимает запрос на социально-политическую предсказуемость и нормализацию, которая преимущественно понимается как завершение острой фазы конфликта России со странами «коллективного Запада».
Социально-политические ожидания, массовое сознание, образ будущего, массовые настроения, социальный оптимизм, нормализация, «негативистский» сегмент, государство, политические технологии, социальные медиа
Короткий адрес: https://sciup.org/149149095
IDR: 149149095 | УДК: 323.23 | DOI: 10.24158/pep.2025.9.5
Текст научной статьи Формирование социально-политических ожиданий в современной России: специфика и основные тенденции
Введение . Изучение социально-политических ожиданий, их природы и механизмов трансформации, занимает важное место в современном социогуманитарном знании. Указанная проблема является, безусловно, одной из значимых и для российской политической науки. Актуальность исследования социально-политических ожиданий, формирующихся и циркулирующих в российском обществе, обусловлена как рядом внутриполитических факторов, так и конфликтной внешнеполитической динамикой начала – середины 2020-х гг. Прежде всего, речь идет о росте геополитической турбулентности в современном мире и конфронтационных стратегиях, последовательно реализуемых ведущими западными государствами в отношении России. Указанная антагонистическая линия во многом основана на «гибридных» форматах противоборства, предполагающих агрессивное воздействие на массовое сознание, эскалацию негативных психоэмоциональных процессов в различных сегментах российского общества. Таким образом, цель исследования состоит в выявлении содержательной специфики и ключевых тенденций кристаллизации социально-политических ожиданий в российском обществе.
Материалы и методы . Ключевым звеном теоретико-методологического фундамента исследования является политико-психологический подход, предполагающий выделение и анализ трех компонентов массового сознания: когнитивного, мотивационно-динамического («поведенческого») и психоэмоционального1 (Jodelet, 2016). Указанный подход позволяет рассмотреть не только внешние репрезентации, но и глубинные аспекты формирования массовых политических ожиданий, являющихся неотъемлемой и наиболее динамичной частью политического сознания (Мухин, 2016; Тощева, 2011). При этом особое внимание уделяется тому массиву политико-психологических исследований, которые посвящены образу коллективного будущего (Комаровский, 2020; Лаврикова, Шумилова, 2022; Титов, 2024). Существенное место в исследовании также занимает политико-социологический подход, позволяющий оперировать репрезентативными данными количественных исследований, что представляется кране важным для четкого понимания общероссийской «панорамы» социально-политических ожиданий.
Работа опирается на широкий круг эмпирических материалов, среди которых следует отметить результаты исследовательских проектов и общероссийских опросов, осуществляемых Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), Фондом общественного мнения (ФОМ), Институтом социологии (ИС ФНИСЦ РАН) и Институтом социально-политических исследований ФНИСЦ РАН (ИСЭПИ ФНИСЦ РАН). Помимо этого были использованы промежуточные данные научно-исследовательского проекта «Конкуренция альтернативных проектов будущего России за управление социально-политическими ожиданиями молодежи» (Финансовый университет при Правительстве РФ, 2025 г.), а также данные комплекса киберметрических и когнитивистских исследований образа будущего в сознании российской молодежи (Домбровская, Огнев, 2024; Расторгуев, Сучилина, 2025).
Социально-политические ожидания: проблема определения и концептуализация исследовательских рамок . Один из важных исследовательских вопросов связан с определением концептуальных рамок понятия «социально-политические ожидания». Можно сказать, что в социально-гуманитарном знании органично сосуществуют три принципиально различных подхода к пониманию ожиданий. Первый подход – нормативный, в котором человек и социальная группа мыслятся как объект социальных ожиданий общества в целом (Парсонс, 2000; Скиннер, 2023). Второй подход – мотивационный – связывает социальные ожидания с иерархией мотивов деятельности, социальным самочувствием и притязаниями человека. (Дидковская, Трынов, 2019; Мартин, Ричи, 2022). Третий подход основан на базовых положениях психологии масс и представляется наиболее продуктивным в рамках данного исследования. Согласно ему многообразие социальных ожиданий, кристаллизующихся в обществе на определенном этапе его развития, – есть сложный синтез когнитивных, мотивационно-установочных и эмоциональных конструктов, взаимодействующих между собой, проецируемых в темпоральную перспективу и отражающихся в коллективном образе будущего (Левашов и др., 2021; Лаврикова, Шумилова, 2022; Зорин, Титов, 2023; Образ будущего в призме социологических измерений …, 2023). При этом исследователи справедливо говорят о превалировании именно психоэмоционального компонента в структуре массовых ожиданий, а также о важности общественной динамики (происходящих экономических и политических изменений) в процессе их кристаллизации (Скочпол, 2017; Graham, Pettinato, 2002; Goldstone, 2011).
Еще один момент, требующий пояснения, связан с использованием терминов «социальнополитические ожидания» и «политические ожидания». Важно отметить, что при всей схожести указанных терминов в их понимании существуют определенные разночтения. В узком смысле политические ожидания – есть совокупность ожиданий, которые непосредственно связаны со сферой политики и, как следствие, отношениями политической власти. По нашему мнению, такой взгляд представляется несколько редуцированным и менее гибким. Подобная ограниченность становится особенно очевидной, если учитывать, что политическое управление прямо влияет на все значимые макросоциальные процессы, охватывает все сферы функционирования современных обществ. Более того, общепризнанно, что политические ожидания – есть производная мак-росоциальных ожиданий, связанных с содержанием образа страны в целом, смысловым и аффективным наполнением будущего и динамикой массовых настроений (Зорин, Титов, 2023). Поэтому использование термина «социально-политические ожидания» представляется более приемлемым в логике проводимого исследования.
Определяя социально-политические ожидания с точки зрения массово-психологического подхода (как феномен массового сознания), необходимо в первую очередь ориентироваться на теоретико-методологический потенциал теорий социальных представлений, социально-политических образов и массовых настроений (Мухин, 2016; Тощева, 2011; Jodelet, 2016). Опираясь на указанные выше теоретические основания, можно охарактеризовать социально-политические ожидания как множество представлений о коллективном будущем в его макросоциальном и политическом измерениях, являющихся оценочной репрезентацией и результатом взаимодействия социальных притязаний и преобладающих в обществе массовых настроений. При такой интерпретации в центре внимания оказывается не только генерализованный образ будущего («Что ждет всех нас?», «Жить станет лучше или хуже?»), но и детализированный – страны, а также образ власти в его широком (включая всё поле властно-политических отношений) понимании.
Проведенный анализ позволяет выделить следующие особенности социально-политических ожиданий как сложного явления, возникающего и развивающегося в поле массового сознания. Во-первых, коллективные социально-политические ожидания представляют собой сложный психологический конструкт, в котором психоэмоциональная составляющая явно превалирует над когнитивным элементом. То есть, траектория и динамика трансформации массовых социальнополитических ожиданий определяются скоростью и направленностью изменений преобладающих в обществе настроений (Мухин, 2016; Титов, 2024). Указанное обстоятельство обусловливает подвижность и динамичность социально-политических ожиданий в сравнении с другими компонентами массового сознания.
Во-вторых, будучи обусловленными текущими настроениями, социально-политические ожидания во многом представляют собой проекцию текущего психоэмоционального состояния общества в перспективе. «День сегодняшний» и «образ настоящего» накладывают серьезный отпечаток на образ будущего. Последний в свою очередь выступает когнитивной и эмоциональной квинтэссенцией и способом структуризации доминирующих в обществе социально-политических ожиданий.
Социальный оптимизм россиян: эмоциональные и рациональные основания . Первая, наиболее заметная и общепризнанная тенденция, характеризующая социально-политические ожидания россиян, – это социальный оптимизм, уверенность в том, что в будущем жизнь в стране станет лучше (Образ будущего в призме социологических измерений …, 2023; Левашов и др., 2024). Так, согласно данным общероссийского исследования ФОМ, 42 % россиян уверены, что в ближайшей перспективе ситуация в стране улучшится, 24 % не ожидают существенных изменений и только 10 % – полагают, что ситуация в России будет ухудшаться1. Однако весьма симптоматично, что говоря о экономических реалиях собственно ближайшего будущего, россияне склонны куда к более сдержанным оценкам2. Справедливо полагать, что в основе такого социально-политического оптимизма лежат несколько взаимодополняемых политико-психологических факторов. Во-первых, имеет место высокий уровень индивидуализации образов будущего и заметная «атомизация» массового сознания россиян. Современные исследования показывают, что граждане, размышляя о будущем в целом, нередко имеют в виду свое собственное (и своих близких)3. Соответственно, будущее «страны России» мыслится значительной частью россиян сквозь призму индивидуализации («мое будущее в России») и посредством некритической экстраполяции, когда позитивный прообраз личного будущего частично отождествляется с будущим России. При этом очевидно, что некоторая часть респондентов действительно имеют вполне рациональные основания демонстрировать социально-политический оптимизм, проецируя в будущее позитивные экономические изменения, происходящие в их жизни (Образ будущего в призме социологических измерений …, 2023).
Во-вторых, можно полагать, что формулируя собственные ожидания, российские граждане четко дифференцируют существующую социальную реальность и негативную (а отчасти, депрессивную и алармистскую) политико-психологическую картину, превалирующую в цифровом пространстве социальных медиа. Деструктивный информационно-психологический фон, который складывается вокруг образа России в цифровом пространстве, в значительной мере отторгается отечественным массовым сознанием. Это происходит, главным образом, по причине когнитивного диссонанса – явного несовпадения «катастрофических» сценариев и прогнозов, активно тиражируемых в цифровой среде, с субъективными ощущениями россиян от происходящего в стране в целом и в собственной повседневной жизни (Домбровская, Огнев, 2024).
В-третьих, результаты исследований показывают, что нынешняя политико-экономическая ситуация в России и вокруг нее мыслится значительным числом ее граждан как экстраординарная и не соответствующая привычной им социально-политической «норме». В силу этого оптимистические ожидания (а скорее, пожелания) «лучшего» будущего для России могут рассматриваться как острая ответная психоэмоциональная реакция на деструктивные макросоциальные (пандемия и «постпандемийный синдром») и геополитические (конфронтация с государствами Запада) факторы, во многом определившие траекторию социально-политического развития России в последние пять лет. Кризисные явления воспринимаются российскими гражданами как затянувшийся (и не зависящий от них самих), обусловленный негативными внешними обстоятельствами «переходный период», который должен неизбежно завершиться нормализацией, если не в самом ближайшем будущем, то в среднесрочной перспективе (Образ будущего в призме социологических измерений …, 2023).
Ожидания россиян: запрос на нормализацию и предсказуемость . Таким образом, можно говорить о второй важной тенденции, характеризующей текущие социально-политические ожидания россиян. Это – острый психологический запрос на возвращение к социально-политической «нормальности»1 . Прежде всего, говоря о различных аспектах нормализации, российские граждане акцентируют внимание на успешном завершении специальной военной операции, прекращении острой фазы военно-политического противоборства с «коллективным Западом» («мир», «завершение СВО», «без войны» и т. д.)2. В исследованиях, посвященных российской молодежи, данная тенденция нашла свое отражение в «ожиданиях-пожеланиях», связанных со спадом геополитической напряженности, хотя бы частичным восстановлением экономических и культурных контактов с западным миром (возвращение зарубежных брэндов, разблокировка западных цифровых платформ). Таким образом, можно полагать, что для существенной части российской молодежи характерна отчетливая прагматизация ожиданий, стремление проецировать их на уровень собственных пространств повседневности («Что изменится лично для меня?»), интерпретировать возможные социально-политические изменения в практическом ракурсе собственного социального благополучия и качества жизни (Домбровская, Огнев, 2024; Расторгуев, Сучилина, 2025).
Тем не менее важно подчеркнуть, что желаемая стабильность видится большинством россиян не как «заморозка» и консервация нынешней социально-политической ситуации, а как движение, уход от нынешнего не вполне приемлемого и «здорового» политико-экономического состояния страны. Речь идет о «динамической стабильности» – переходе России от политико-экономической турбулентности к более предсказуемой траектории развития. Разумеется, достижение предсказуемости большинство россиян так или иначе связывает с завершением специальной военной операции на Украине, которое они, очевидно, представляют себе по-разному («мир во всем мире», «наша победа» и т. д.)3. Говоря о нормализации и предсказуемости, россияне рассматривают такое «желаемое завтра» в принципиально разных ракурсах: геополитическом, социально-экономическом и утилитарно-материальном. Если для части российских граждан нормализация подразумевает, прежде всего, снижение геополитической конфликтности вокруг России, то для других – возвращение к привычным стандартам социального комфорта и символического потребления.
Отчуждение и негативизм в пространстве социально-политических ожиданий . Третья тенденция, характеризующая социально-политические ожидания россиян, носит более глубокий политико-психологический характер и является противоречивой по своему содержанию. Можно говорить о том, что наблюдается частичное ментальное отчуждение части россиян (прежде всего, молодого и среднего возраста) от актуальной политической повестки, сугубо отстраненный, «созерцательный» взгляд на социально-политические процессы в России и в мире. Данная политико-психологическая особенность проявляется и в стремлении возложить всю ответственность на обобщенную (и частно анонимизированную) «власть-государство», и в попытках отделить собственные интересы и жизненные перспективы от политических перспектив России в целом (Титов, 2024).
Важно отметить, что указанная тенденция, в отличие от двух предыдущих, носит менее явный и в большей степени имплицитный характер. Однако она находит косвенное подтверждение в результатах общероссийских количественных исследований. Например, в этом плане весьма показательны результаты опроса ВЦИОМ, из которого следует, что для 53 % респондентов 2024 г. был «очень удачным и в целом хорошим» (43 % – «очень тяжелым», «скорее трудным»). При этом, отвечая на вопрос «Каким прошедший год был для России в целом?», респонденты приводят диаметрально противоположные оценки. Так, 70 % опрошенных считают, что 2024-й был для нашей страны «скорее трудным, плохим, очень тяжелым» (23 % – удачным и позитивным для России)1. То есть можно полагать, что в российском обществе оформился пока не четкий, а, скорее, латентный (но потенциально деструктивный) вектор отчуждения индивидуальных интересов и ожиданий некоторой части россиян от «России в целом».
Четвертой тенденцией, заслуживающей серьезного внимания, является наличие в российском обществе весьма устойчивого вектора негативных социально-политических ожиданий. При этом необходимо констатировать, что, согласно данным различных исследований, «негативистский» сегмент является весьма многочисленным (не менее 20–25 % респондентов) (Образ будущего в призме социологических измерений …, 2023). Представители его видят будущее России, ее долгосрочные перспективы сквозь призму кризисного развития, радикального или серьезного ухудшения ситуации в стране2. Они говорят о падении собственных доходов, снижении уровня жизни, высокой вероятности эскалации противостояния с государствами «коллективного Запада», угрозе утраты политической стабильности и разрушения российской политической системы. Важно отметить, что в рамках данного «негативистского» сегмента выделяются две неравные группы респондентов. Первая, превалирующая – очевидно, проецирует субъективные социально-экономические ощущения и страхи на образ будущего России в целом, опасается, в первую очередь, резкого падения уровня доходов и роста инфляции. Вторая, меньшая группа российских «негативистов» рассматривает будущее страны более узко, сквозь призму образа власти, связывая все деструктивные процессы исключительно с деятельностью нынешнего российского руководства.
Заключение . Социально-политические ожидания представляют собой сложный конструкт массового сознания, вбирающий в себя множество представлений о коллективном будущем в его макросоциальном и политическом измерениях. Важнейшую роль в формировании содержания и психоэмоционального профиля социально-политических ожиданий играют текущие массовые настроения, преобладающие в обществе. Социально-политические ожидания в современной России при всём своем разнообразии характеризуются такими основными тенденциями, как устойчивый социальный оптимизм, проецируемый в будущее, запрос на политическую предсказуемость и нормализацию социально-экономической ситуации.
Также для российского общества характерно наличие обширного сегмента негативных представлений о будущем и прагматическая локализация ожиданий вокруг «пространств повседневности», что является следствием всё более заметного отчуждения части россиян от макрополитической повестки дня. Представляется, что возможность преодоления такого отчуждения должна рассматриваться в двух ракурсах. Первый, процессуальный ракурс обусловлен вероятным изменением социально-политической динамики, завершением острой фазы геополитического конфликта с государствами «коллективного Запада». Второй ракурс – политико-технологический – связан с целенаправленным конструированием национально-государственного образа будущего, адекватного как политическим нарративам, декларируемым российской властью, так и социально-политическим запросам граждан. Очевидно, формирование прочного и позитивного образа будущего, разделяемого значительной частью российского общества, предполагает использование широкого арсенала политических технологий, в том числе инклюзивного характера, нацеленных на кристаллизацию устойчивой и очевидной ментальной взаимосвязи между «пространствами повседневности» россиян и стратегическими политическими приоритетами государства.