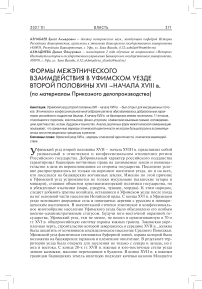Формы межэтнического взаимодействия в Уфимском уезде второй половины XVII -начала XVIII в. (по материалам приказного делопроизводства)
Автор: Азнабаев Булат Ахмерович, Ахмадиева Диана Фануровна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Школа молодого этнополитолога
Статья в выпуске: 1, 2021 года.
Бесплатный доступ
Уфимский уезд второй половины XVII - начала XVIII в. - был открыт для миграционных потоков. Этническое и конфессиональное многообразие региона обуславливалось добровольным характером российского подданства башкир. К началу XVIII в. на башкирских землях поселились 11 этносов, относящихся к тюркским, монгольским, финно-угорским, славянским языковым семьям, исповедовавшим христианство, ислам, буддизм и язычество. Анализ различных форм межэтнической коммуникации показывает, что привычные маркеры этнической идентичности не играли большой роли в ассимиляционных или интеграционных процессах в регионе.
Уфимский уезд xvii в, маркеры этнической идентичности, этническое взаимодействие
Короткий адрес: https://sciup.org/170174633
IDR: 170174633 | DOI: 10.31171/vlast.v29i1.7953
Текст научной статьи Формы межэтнического взаимодействия в Уфимском уезде второй половины XVII -начала XVIII в. (по материалам приказного делопроизводства)
У фимский уезд второй половины XVII – начала XVIII в. представлял собой уникальный в этническом и конфессиональном отношении регион Российского государства. Добровольный характер российского подданства гарантировал башкирам вотчинные права на занимаемые земли и невмешательство в дела их вероисповедания со стороны государства. Последнее условие распространялось не только на коренное население уезда, но и на всех, кто поселялся на башкирских вотчинных землях. Именно по этой причине в Уфимский уезд устремляются не только мусульмане (казанские татары и мишари), ставшие объектом христианизаторской политики государства, но и убежденные язычники (мари, удмурты, чуваши, мордва). К этим народам, следует добавить группы ногайцев, оставшиеся в Уфимском уезде после ухода на юг основной части населения Ногайской орды. С конца XVI в. в Уфимском уезде возникают дворцовые села и помещичьи деревни с русским и новокрещенским населением. В значительной степени этническое и конфессиональное многообразие населения Уфимского уезда было обусловлено его особым военно-административным статусом. Будучи юго-восточной окраиной государства, Уфимский уезд, тем не менее, не вошел в организованную в 70-е гг. XVI в. общероссийскую систему охраны южных границ. Закамская укрепленная черта, строительство которой завершилось в середине XVII в., должна была защитить от кочевников земледельческое население Среднего Поволжья. Уфимский уезд фактически становился буферной зоной, охрана которой была возложена на башкирских тарханов и племенное ополчение. В результате территория уезда была открыта для заселения не только с севера и запада, но с юга и востока. С конца 20-х гг. XVII в. южные и юго-восточные степи уезда заняли калмыки, массово переходящие в буддизм. В конце XVII в. к южным границам башкирских земель вплотную подходят кочевья казахов Младшего
Жуза и аральских каракалпаков. Они приняли активное участие в башкирских восстаниях начала XVIII в.
На территории Уфимского уезда второй половины XVII – начала XVIII в. наблюдается все разнообразие форм межэтнического взаимодействия от ассимиляции, аккультурации и интеграции до межэтнических конфликтов. В данной статье мы попытаемся выяснить, какие именно этнические признаки определяли направление этого взаимодействия. Поскольку утвердившиеся в науке определения этноса, так или иначе, связываются с языком, представлением об общем происхождении, религией и этническим самосознанием [Широкогоров 2001: 6; Вебер 2016: 374; Бромлей 1983: 150], то логичнее начать именно с этих этнических маркеров.
В XVII – начале XVIII в. на территории Южного Урала обитали шесть народов, говорящих на тюркском языке кыпчакской группы: башкиры, татары, мишари, ногайцы, казахи и каракалпаки. При этом, как отмечает О.А. Мудрак, наиболее близкими являлись башкирский и татарский языки. На сегодняшний день число схождений в этих языках составляет 81 % [Мудрак, Хисаметдинова 2017: 52]. В XVI-XVII вв. этот показатель был еще более значительным, поскольку, по мнению филологов, распад Ногайской орды в конце XVI в. вызвал усиление расхождения в языках башкир и татар. В этот период в башкирском языке формируется диалект (северо-западный), который в XVIIXVIII вв. был намного ближе к татарскому языку, нежели восточному диалекту самого башкирского языка. Однако О.А. Мудрак указывает и на близость языков всех кочевых и полукочевых народов региона: «В кыпчакских языках представлен значительный подскок процентов совпадений башкирского языка и его диалектов с казахским, каракалпакским и ногайским» [Мудрак, Хисаметдинова 2017: 54]. Добавим, что у башкир, татар, ногайцев и казахов был общий литературный язык «тюрки». Судя по документам официального делопроизводства Уфы XVII – начала XVIII в., башкирские толмачи пишут памяти и отписки «по-татарски», челобитные башкир составляются на «татарском языке»1.
Тем не менее, в бытовом общении башкиры и татары языки свои вполне различали. В 1679 г. крестьянин Аяцкой слободы Фрол Арапов информировал власти о настроениях башкир в Кунгурском уезде. Встреченные им башкиры открыто заявили ему о своем намерении «воевать великого государя городы Кунгур и сибирские слободы». Они предупредили Фрола Арапова, чтобы он «из Аяцкой слободы ехал вон потому, что он-де Фрол им-де родня, а он татарский и башкирский языки знает2. Примечательно то, что в описываемой ситуации башкиры сознательно пошли на риск раскрытия их замысла, предупредив русского человека о готовящемся нападении, только на том основании, что он «им-де родня», так как знает башкирский и татарский языки.
Другой пример демонстрирует, что язык мог стать основным указателем на этническую принадлежность. В 1661 г. татарин Катайского острога Чумай Келмеев информировал администрацию о намерениях башкир напасть на Катайский острог и Долматов монастырь. Узнать о планах восставших Кемею удалось благодаря тому, что башкирам он представился русским, а «татарский язык потаил»1.
Таким образом, обитающие в Уфимском уезде XVII – начале XVIII в. башкиры, татары, ногаи, каракалпаки, мишари и казахи говорили на языках, сходство которых было очень значительным, а различия могли вполне уложиться в рамки диалектных особенностей. К примеру, язык северо-западных башкир был гораздо ближе к татарскому языку, нежели к куваканскому говору восточных башкир. По этой причине в среде тюркских народов края язык в качестве маркера этнической идентичности не выполнял своего главного предназначения.
Что касается нетюркских народов края (русских, калмыков, марийцев и удмуртов), то нельзя сказать, что различие в языках формировало непреодолимую дихотомию «свой – чужой». Согласно концепции Леви-Стросса: «По отношению к чужому допустимы неприемлемые для своих действия и поступки, во взаимоотношениях с чужим действуют иные нормы» [Леви-Стросс 1994: 27]. Примеры башкирских восстаний XVII-XVIII вв. и башкиро-калмыцких столкновений свидетельствуют, что в отношении противников действовали определенные правила ведения войны. К примеру, в 1633 г., находясь на зимней промысловой охоте, один башкир случайно убил калмыцкого подростка. Как было сказано в документе «Посольского приказа»: «…а тот малый был не боец». Виновник инцидента обязался выплатить выкуп родителям убитого калмыка, что вполне удовлетворило калмыцкую сторону2. Таким образом, в ходе башкиро-калмыцкой войны обе воюющие стороны воздерживались от применения насилия в отношении населения, неспособного себя защитить. Аналогичных принципов придерживались противоборствующие стороны во время башкирских восстаний до 1735 г. «Башкиры, – отмечает, В.Н. Татищев, – называли «свои бунты войнами, а отпущение вин – миром»3. Представление башкир XVII – XVIII вв. о враге декриминализовано, и вчерашний враг сегодня мог стать союзником. Именно по этой причине наибольшее возмущение у башкир вызывали случаи нарушения конвенциональных правил ведения войны. В 1696 г. около Яицкого городка расположились 200 семей башкир, намеревавшихся получить прощение властей и вернуться на родину после восстания 1682 г. Проигнорировав предупреждение уфимской администрации, казаки напали на башкир. Уфимская администрация потребовала вернуть родственникам хотя бы жен, детей и имущество убитых башкир. Казаки ответили отказом, поскольку «башкирские жены и дети побиты на том бою» [Карпов 1911: 325]. После этого события башкиры, нарушив подданническую присягу России, заключили с казахами военный союз, направленный против яицких казаков.
Вера в общее происхождение имеет фундаментальное значение в контексте этнической идентичности. Действительно, еще в XVIII в. у башкир имелись генеалогические истории, в которых утверждалось, что башкиры, татары, мишари и ногаи имели общего прародителя. Так, в шежере Кинзи Арсланова, одного из предводителей башкир восстания Е.И. Пугачева, отмечено, что его род ведет происхождение от братьев Ногая, Иштяка, Татара и Мишара [Кузеев 1991: 39]. В данном сообщении обращает на себя внимание, что «иштяк» – экзоэтноним, которым башкир называли ногаи и казахи.
Вместе с тем, башкиры вполне осознавали свое родство с более отдаленными тюркскими народами. Перед восстанием 1682 г. до российской администрации дошли сведения о том, что «башкирцы говорили меж собой, что-де твой великого государя город Чигирин турские и крымские люди взяли и твоих великого государя людей побили, а оне потому и будут воевать, что их одна душа и родня, а они турские и крымские станут биться, а они башкирцы и татары здесь будут биться»1.
Являлось ли для башкир осознание общности происхождения с другими тюркскими народами основанием для формирования политической идентичности, т.е., по определению К. Шмитта, критерием для различения врага и друга [Шмитт 2016: 252]. Вышеприведенный фрагмент как будто дает основания для положительного ответа. Однако реальные события опровергают достоверность подобных деклараций. В 1696 г., т.е. спустя 14 лет после изложенных событий, башкиры охотно приняли участие в военных действиях под Азовом. Они сыграли ключевую роль в сдерживании крымских татар и ногайцев, нападавших на позиции русских войск. Башкиры и казаки не позволили наладить связь между осажденными и турецкими войсками, пытавшихся деблокировать осажденную крепость. За личное мужество 62 башкира получили тарханское звание [Рахимов 2014: 40].
Генеалогические мифы об общем происхождении не мешали башкирам отрицательно относиться к заключению браков с ногайцами. Башкирский эпос «Таргын и Кужак» повествует о том, что башкиры чурались брачных и любых других союзов с ногайцами, считая подобную близость позорной для рода [Киреев 1970: 70].
В 1643 г. группа из 1300 «алтаулских» ногайцев во главе с мурзой Султаном обратилась к уфимской администрации с просьбой о подданстве, что предполагало поселение в Уфимском уезде. Воевода М.М. Бутурлин обратился к башкирам Курки-Табынской волости Сибирской дороги, Минской и Кудейской волостей Ногайской дороги, Киргизской и Гирейской волости Казанской дороги с запросом: «…буде он Салтан мурза с улусными людьми, обнадежась на государственную милость, придут кочевать в башкирские волости не будут ли от них башкирцам …какого утеснения и налога». В конечном счете, именно на основании ответа башкир ногайцам в их просьбе было отказано2.
Одним из критериев идентичности, в том числе и этнической, является конфессиональная принадлежность. Однако все 6 тюркских народов, обитающих на территории края, исповедовали один и тот же суннитский ислам ханафит-ского мазхаба. Для урегулирования спорных вопросов башкиры, татары и мишари нередко собирали третейские шариатские суды3. Татары, ногайцы и башкиры чтили захоронения суфийских святых [Идиатуллов 2018: 90]. В XVIIXVIII в. на территории Башкирии исламизировалось пришлое языческое население. В 1743 г. И.К. Кирилов в своем докладе о состоянии дел в Уфимской провинции отметил, что перевод в ислам язычников приобрел массовый характер4.
Тем не менее, мусульманское вероисповедание являлось необходимым, но далеко не достаточным условием включения в башкирскую родовую струк- туру. И, напротив, переход башкира в другую религию, не означал окончательного разрыва отношений с общинными институтами. В 1639 г. на башкир Усерганской волости подали судебный иск казанские новокрещены и ясачные татары. Суть обвинения заключалась в захвате родовой вотчинной земли, которая принадлежала деду истцов – башкиру Уфимского уезда Усерганской волости. Предъявив свои родословные росписи, казанские новокрещены и татары легко убедили не только администрацию, но и самих башкир-вотчинников в своем праве на родовую землю1. Таким образом, даже, перейдя в другое сословие и другую религию, можно было остаться членом башкирской родовой структуры, пользуясь всеми правами вотчинников.
Любопытно, что в XVII в. уфимские толмачи и приказные люди вполне уверенно могли отличить «по обличью» не только башкир от калмыков, но и башкир от ногайцев. Приведем один такой пример из дипломатической практики. В 1660 г. в Уфу прибыла представительная делегация от калмыцкого тайши Мазика во главе с Мамытом Алдарбакшиным. Калмыки намеревались найти своих соотечественников в Уфимском уезде, поэтому привели с собой 162 пленных разных полов и возрастов, в числе которых были русские, казанские татары, марийцы и башкиры. При размене пленных возникла заминка, поскольку среди представленного калмыками ясыря было много детей, не помнящих своего родного языка, «…себе имени, отцу и которого города они уроженцы, и сколь давно и какие люди в полон их взяли». Идентификация русских детей не заняла много времени, а вот в случае «башкирскими детьми» уфимские администраторы взяли почти двухдневную паузу. Мамыт Алдарбакшин представил группу из 10 детей возрастом от 5 до 10 лет, якобы захваченных в плен в разные годы. Ни один из них не помнил своих родителей, время и место своего пленения. К тому же, все они говорили только на калмыцком языке. В итоге уфимская администрация отказалась обменивать этих детей на калмыцких пленных, заявив Алдарбакшину: «…а по обличью, знать, они прямые ногайские люди, а не башкирские и не чувашские». Калмыков же предупредили, что размен предполагался только на «русский и на башкирский и чувашский и черемисский, а не ногайский полон»2. Обратим внимание и на то, что администраторы вполне отдают себе отчет, что ногайцы отличаются от башкир, а последние не похожи «на чуваш» (в данном случае казанских татар). Таким образом, утверждение о том, «ногайцы» – не этноним, а «политоним, под ним следует рассматривать все население Ногайской орды» [Исхаков 2002: 141 – 148] представляется умозрительным. Тем не менее, необходимость идентифицировать башкир, ногайцев, казанских татар по внешним признакам – скорее единичная вынужденная мера в необычной ситуации, нежели повседневная практика уфимской администрации. Дело в том, что уже к середине XVII в. среди башкир были зафиксированы не только выходцы из ногайцев, татар и калмыков, но и сартов (узбеки), русских и даже этнических немцев3.
В последних исследованиях, посвященных этническим процессам на Южном Урале XVII – XVIII в., все чаще используется понятие «тюрки». Однако понимают под тюрками не языковое сообщество, а якобы, реальный этнический субстрат, сохранившийся со времен каганатов. Во второй половине XVI – начале XVII в. этот тюркский этнос под воздействием политики российского правительства начинает разделяться на сословные группы, каждой из которых было уготовано свое историческое предназначение. Р.С. Хакимов утверждает, что башкир – сословие, созданное на основе тюркского населения Южного Урала, прежде входившего в состав Казанского ханства [Хакимов 2016: 4]. М.И. Ахметзянов отмечает, что башкирское сословие, сформированное государством из татар Южного Урала, получило привилегированный статус и противопоставлялось другим тюркским народам региона [Ахметзянов 2002: 208 – 213].
Можно ли принять утверждение казанских историков о том, что в XVI – XVIII вв. в регионе существовала тюркская этническая общность, разделенная государством на сословные группы? В какой мере справедливо замечание, что идентификация в восточном Приуралье имела исключительно сословный характер?
Поскольку Р.С. Хакимов и М.И. Ахметзянов не предложили своей трактовки понятия «сословия», будем исходить из его общепринятой интерпретации. Являлись ли башкиры XVII – начала XVIII в. особой социальной группой, права и привилегии которой определялись законом? Обзор общероссийского права XVII в. свидетельствует, что никакого особого законодательства, регулирующего права башкирского сословия не существовало. В Соборном уложении нормы, определяющие земельные права инородцев, не проводят никаких различий между татарами, мордвой, чувашами, черемисами, вотяками и башкирцами [Тихимров, Епифанов 1961: 188]. Более того, уфимские нормативные акты, регламентирующие сбор ясака, выделяют внутри башкир несколько сословных групп со специфическими обязанностями в отношении государства. К примеру, башкирские тарханы, получая освобождения от ясака, были обязаны нести постоянную личную службу. Башкиры, состоящие в сословии служилых татар, жаловались за службу государству поместными и денежными окладами. Ясачные башкиры были обязаны платить ясак, исполнять подводную повинность и участвовать в общих походах российских войск. Башкиры – тептяри освобождались от платы ясака за владение родовыми вотчинными угодьями, но платили тептярский ясак. Таким образом, никакого особого башкирского сословия в XVII – начале XVIII в. не существовало.
Подведем предварительные итоги. В Уфимском уезде второй половины XVII в.– начала XVIII в. бок о обок обитали народы, имеющие представления об общем происхождении, говорящие на языках, различия которых были незначительны, и исповедовавшие одну и ту же религию. В какой степени близость по основным этническим признакам определяла направления межэтнического взаимодействия? Можно ли утверждать, что башкиры, ногайцы, татары, мишары, казахи и каракалпаки, проживая на одной территории, принадлежа к одной языковой группе, разделяя представление об общем происхождении, имели наиболее близкие этнические контакты?
Для ответа на этот вопрос следует обратиться к такой форме этнического взаимодействия как интеграция. В отличие от ассимиляции или аккультурации интеграция носит осознанный и, как правило, добровольный характер. Кроме того, этническая интеграция не означает полного вытеснения этнической самобытности у интегрированного этноса [Дугин 2011: 79].
Итак, в конце XVIII в. насчитывалось 121 башкирский род и 1693 родовых подразделений [Рычков 1999, Кузеев, 1974]. По нашим подсчетам, 173 родовых подразделений башкир (более 10 %) были образованы выходцами из 9 этносов. Однако по численности пальма первенства принадлежит калмыкам. Более того, калмыки даже образовали в родовой структуре башкир особое племя «Колмак». Всего же 43 родовых подразделения «колмак» были вклю- чены в состав 37 башкирских родов. Следует отметить, что калмыки, интегрированные в структуры башкирских родовых подразделений, сохранили память о своем происхождении. Никакого мифа о каких-либо общих предках у башкир и калмыков не возникло. Таким образом, из множества этносов (тюркских, финно-угорских, монгольских, славянских) обитавших на территории Башкирии в XVII – начале XVII вв. «своими» для башкир стали калмыки, которые не говорили на тюркском языке, исповедовали враждебную исламу религию (язычество и буддизм), сохраняли память о своем особом происхождении и к тому же являлись давними противниками башкир. Военные действия между калмыками и башкирами начались в начале 20-х гг. XVII в. и продолжались до 20-х гг. XVIII в. Добавим к этническим различиям и социальные расхождения в развитии башкирского и калмыцкого обществ XVII в. Башкиры не сакрализировали своих родовых вождей, у них отсутствовало деление на белую и черную кость, а все важнейшие вопросы жизни общества решались на народных собраниях – йыйынах. Попытки советских исследователей найти феодальную ренту в башкирском обществе не увенчались успехом. Калмыцкое общество времен степного уложения «Цааджин-Бичик» представляло собой довольно жесткое иерархическое общество во главе с тайшами, которые располагали собственностью и свободой простых общинников – албату. Даже в хозяйственном отношении башкиры и калмыки относились к разным кочевым сообществам – полукочевники и кочевники.
Что же препятствовало этническому сближению с башкирами родственных им народов – татар и мишарей? Простой и ясный ответ дал на этот вопрос в 1763 г. оренбургский губернатор Д.В. Волков, который указал на презрительное отношение башкир, посчитавших себя едва ли не дворянами, к своим работникам – казанским татарам1. Дело в том, что пришлое население селилось на башкирских землях, что приводило их к разным формам экономической зависимости. Как отмечалось в докладе И.Г. Головкина 1719 г., пришлое население делало на башкир «всякую работу и землю пашут и сено косят»2. К тому же, будучи полукочевниками, башкиры испытывали традиционную неприязнь к природным земледельцам – казанским татарам.
Появление казахов у южных границ башкирских земель совпало со временем с одним из самых крупных башкирских восстаний 1704 – 1711 гг., и некоторые предводители казахских родов и даже сам будущий хан Абулхаир активно принимали участие в сражениях с российскими войсками3. В 20-е гг. XVIII в. теснимые джунгарами казахи Младшего жуза начинают постепенно обживать нижнее течение Яика. Тем не менее, до 30-х гг. XVIII в. казахско-башкирские отношениями ограничивались дипломатическими контактами глав родов. Дело в том, что для башкир степи за Яиком представляли исключительно промысловый интерес. Здесь они не кочевали, а охотились зимой на тарпанов. Казахи же занимали эти пастбища в летнее время, предпочитая на зиму откочевывать к Аральскому морю4. Так что ситуация почти повторяла исторический анекдот: «живем довольно близко, а не видимся».
На наш взгляд, проблема этнической идентичности не вполне обосно- ванно сопрягается с устоявшимися в науке определениями этноса, точнее с той таксономией признаков этноса, которая присутствует в исследованиях С.М. Широкогорова, М. Вебера и Ю.В. Бромлея. В этом дискурсе в порядке иерархии выстраиваются основные признаки этноса, где на первом месте помещается этнический язык, вслед за которым идет вера в общее происхождение, а замыкает дефиницию комплекс этнических обычаев, традиции и культура. Вместе с тем, ключевым элементом этнической идентичности являются представления, которые формируются в процессе межэтнической коммуникации [Солдатова 1998: 67]. Очевидно, что выстраивание диспозиции «свой – чужой» не всегда обусловливается верой в общее происхождение, близостью языка или общим прошлым. Наиболее очевидным примером подобного утверждения являются башкиро-калмыцкие отношения XVII – начала XVIII в., представлявшие собой почти непрерывную череду военных столкновений. Тем не менее именно калмыки чаще представителей других этносов включались в престижную родовую структуру башкир-вотчинников. Война вполне сопрягается с этнической интеграцией, которая, как уже отмечено, носит добровольный и осознанный характер.
Статья публикуется при поддержке Школы молодого этнополитолога в Республике Башкортостан (грант Фонда президентских грантов 19-2-022447).
Список литературы Формы межэтнического взаимодействия в Уфимском уезде второй половины XVII -начала XVIII в. (по материалам приказного делопроизводства)
- Ахметзянов М.И. 2002. Ногайская Орда: историческое наследие татарского народа. - Цивилизованные, этнокультурные и политические аспекты единства татарской нации. Казань: Фэн, 317 с.
- Бромлей Ю.В. 1983. Очерки теории этноса. М.: Наука, 418 с.
- Вебер М. 2016. Хозяйство и общество: очерки понимающей социологии. М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 448 с.
- Дугин А.Г. 2011. Этносоциология. М.: Академический Проект, Фонд «Мир», 639 с.
- Исхаков Д.М. 2002. Демографическая ситуация в татарских ханствах Поволжья. - Казанское ханство, актуальные проблемы исследования. Казань: Изд-во «Фэн», 320 с.
- Идиатуллов А.К. «Священные» объекты татар и башкир Среднего Поволжья и Приуралья - Вестник Томского государственного университета. История. 2018. № 52. С. 71 - 90.
- Карпов А. Б. 1911. Уральцы. Исторический очерк. Яицкое войско от образования войска до переписи полковника Захарова (1550 — 1725 гг.). Уральск: Войсковая типография, 1009 с.
- Киреев А. Н. 1970. Башкирский народный героический эпос. Уфа: Башкирское книжное изд-во, 302 с.
- Леви-Строс К. 1994. Первобытное мышление. М.: Республика, 384 с.
- Кузеев Р.Г. 1991. Башкиры и ногайцы: этнографические взаимосвязи. - Основные аспекты историко-географического развития Ногайской Орды. Материалы Всесоюзной научной конференции. М.: Терекли-Мектеб, С. 39 -43.
- Кузеев Р.Г. 1974. Происхождение башкирского народа. М.: Наука, 576 с.
- Мудрак О.А. 2017. Хисамитдинова Ф.Г. Кыпчакские языки Урало-Поволжья. Астана: Еылым баспасы, 164 с.
- Рахимов Р.Н. 2014. На службе у «Белого царя». Военная служба нерусских народов юго-востока России в XVIII — первой половине XIXв. М.: «РИСИ», 544 с.
- Рычков П.И. 1999. Топография Оренбургская. Уфа: Китап, 362 с. Солдатова Г.У. 1998. Психология межэтнической напряженности. М.: Смысл, 389 с.
- Тихомиров М.Н., Епифанов П.П. 1961. Соборное уложение 1649 года. М.: Изд-во Моск. ун-та, 444 с. Хазанов А.М. 2002. Кочевники и внешний мир. Алматы: Дайк-Пресс, 604 с. Хакимов Р.С. 2016. История татар Западного Приуралья. Кочевники Великой степи в Приуралье. Татарские средневековые государства. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 464 с.
- Широкогоров С.М. 2001. Этнос. Исследование основных принципов изменения этнических и этнографических явлений — Избранные работы и материалы. Владивосток: Издательство Дальневосточного университета, Кн. 1. 134 с. Шмитт К. 2016. Понятие политического. СПб.: Наука, 568 с.