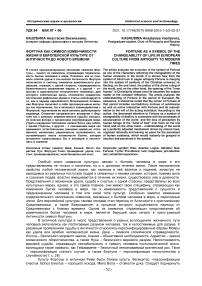Фортуна как символ изменчивости жизни в европейской культуре от Античности до Нового времени
Автор: Кашубина Анастасия Васильевна
Журнал: Историческая и социально-образовательная мысль @hist-edu
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 5-2 т.7, 2015 года.
Бесплатный доступ
В статье проанализирована эволюция символа Фортуны - одного из символов, отражающих переменчивость бытия человека в мире. Показано, как из символа слепой удачи в языческой Античности Фортуна включается в систему символов христианского универсума, отражая, с одной стороны, справедливость божественного управления миром, а с другой - открытие в христианстве «внутреннего человека», для которого собственная жизнь становится предметом постоянной рефлексии. Далее в статье анализируется то, как в период европейского Возрождения понимание Фортуны включает в себя противоречивые мотивы как подчинения, так и активного взаимодействия с Фортуной, подчинения ее воле активно действующего индивида. Снижение напряженного внимания к Фортуне как к символу переменчивости судьбы связано, по мнению автора, с процессами секуляризации мира, утраты ощущения человеком «длани Бога» над собой, с одной стороны, с другой - с пониманием мира как движимого естественными законами идеально отлаженного механизма, рационально познаваемого, не оставляющего места потаенности бытия, которая мгновенно схватывалась бы в интуиции и постигалась в символе.
Символ, дике, ананке, логос, адрастия, нус, фортуна, тюхе, провидение, удача, счастье, провиденциализм, экзистенциальный опыт
Короткий адрес: https://sciup.org/14950722
IDR: 14950722 | УДК: 94 | DOI: 10.17748/2075-9908-2015-7-5/2-52-57
Текст научной статьи Фортуна как символ изменчивости жизни в европейской культуре от Античности до Нового времени
Особый класс символов культуры связан с бытием человека в мире и его представлением не только о наличном, но и о должном течении жизни. Такое несомненное свойство любой человеческой жизни, как наличие в ней взлетов и падений, зачастую не выводимых из реальных поступков людей и связанных с некими силами, которые, помимо воли и сознания людей, властно вмешиваются в течение их жизни, существовало уже в древности. Представления о жизненном уделе, судьбе и счастье, с одной стороны, представлены во всех культурных мирах, однако, и это самое главное, они имеют свою специфику, отражающую как изменения бытия человека в мире, так и изменчивость представлений о сущности и предназначении человека в том или ином типе культур. Особенно заметно изменение содержательного наполнения символов, связанных с бытием человека в мире, в переходные эпохи. Для европейской культуры такими эпохами стал переход от Античности к христианскому Средневековью, а также Возрождение, в процессе которого осуществился переход от Средневековья к Новому времени. Одним из символов, отражающих представление об изменчивости бытия человека в мире, является берущий свое начало в греко-римской Античности символ Фортуны.
В античной культуре в число представлений о разных воплощениях жизненного пути человека включались как постигаемые разумом человека, так и непостижимые для разума. К разумным проявлениям судьбы в Античности относились персонифицированные образы Мойры как удела или жребия человеческой жизни, Дике – символа космической справедливости, Логоса – безличного мирового закона, Ананке – объективной необходимости, Адрастии – закона космического оборотничества, а также Нуса – безличного мирового разума. Непостижимость мировой судьбы, отражавшую нестабильность и тревогу человека постклассической эпохи, воплощали такие символы, как Геймармене – безличный непознаваемый вселенский рок, Тюхе – персонификация слепого случая, а также Фортуна – персонификация непостоянства и случайности [1, с. 28].
Культу Фортуны в античном Риме были близки культы Фелицитас –персонификации счастья, Bonus Eventus – хорошего исхода, Mens Bona – стойкости духа. Следует подчеркнуть связь Фортуны с системой римских добродетелей, в которые включались гражданское мужество, стойкость духа и верность слову. Фортуну почитали в двуединстве как личных, так и общественных дел, что отражало представление римлян о том, что только домохозяин имеет право быть гражданином Рима. Важно отметить также и то, что культ Фортуны был введен римским императором, которого судьба вознесла из рабского состояния на вершину политической власти Рима. Таким образом, в символе крылатой Фортуны нашли отражения как особенности устроения римской civitas, так и специфика императорского Рима, в котором неустойчивость положения человека стала нормой. Подчеркивая непостоянство Фортуны, ее изображали в виде молодой женщины, нередко крылатой, на шаре или колесе, иногда с повязкой на глазах. О популярности культа фортуны свидетельствовало то, что ей посвящались тысячи алтарей и капелл в Римской империи; ее изображение имелось в домашних святилищах, на монетах и на предметах домашнего обихода. Не случайно в период приближения социального хаоса в позднеримскую эпоху Фортуна делается наиболее популярной богиней римского пантеона и почитается под тысячами имен и прозвищ. Плиний Старший писал: «…по всему свету, повсюду во все часы дня голоса всех призывают и называют одну Фортуну, ее одну обвиняют, привлекают к ответственности, о ней одной думают, ее одну хвалят, ее одну уличают. С бранью почитают Фортуну изменчивую, многие считают ее слепой, бродячей, непостоянной, неверной, вечно меняющейся, покровительницей недостойных. Ей на счет ставятся и дебет, и кредит, и во всех расчетных книгах смертных одна Фортуна занимает и ту, и другую страницу» [2]. Следует отметить и то, что символ непостоянства и изменчивости судьбы не нашел своего отражения в таких направлениях позднеантичной философии, как стоицизм и неоплатонизм, в которых разрабатывалось учение об истинном миропорядке, согласно которому ничего случайного в мире нет.
«В исключительных условиях духовного кризиса, ознаменовавшего переход от Античности к Средним векам, был сделан важный шаг к уяснению специфики символа и мифа как инструмента выражения такого символа, который и не мог вместиться в рассудочнодискурсивный дискурс» [3, с. 152]. Отождествление действий Фортуны с кознями дьявола на заре Средневековья у Саллюстия и других авторов исказило античный образ Фортуны: в ней либо стали видеть злой и коварный дух (Лактанций), либо считали лживой и пустой фантазией глупцов (Тертуллиан, Иероним, Паулин из Нолы). Вершину средневекового христианского символического универсума занял Бог, управляющий миром, «сообразно с порядком вещей и времен, – порядком, для нас вполне сокровенным, а Ему вполне известным», – писал Аврелий Августин [4, с. 234]. Однако признание того, что в жизни человека есть непостижимые для него самого повороты судьбы, взлеты и падения, заставило христианских мыслителей использовать античный символ, уже не соотнеся Фортуну с сонмом других персонифицированных проявлений удачи, счастья и т.п. (как это было присуще античной картине мира), но указав ее место в строгой иерархии христианского мироустроения, вершину которого занимает Бог-Творец, как силы, исполняющей его недоступные для человеческого понимания предначертания.
Очень важное значение для выработки классической для Средневековья теологофилософской концепции Фортуны, поставленной на службу Божественному Провидению, имел личный экзистенциальный опыт христианского богослова. Опыт молитвы и исповеди, «внутреннего человека» стал необходимым для того, чтобы постичь не по законам разума, а по законам сердца истинную суть Фортуны. Такой личный опыт переживания чрезвычайной изменчивости судьбы был у «последнего римлянина» Боэция, длительное время ощущавшего себя любимцем Фортуны. Но когда, казалось, Боэций достиг вершины своих честолюбивых устремлений, Фортуна обратила к нему свой ледяной взор. Боэций на собственном опыте убедился, сколь ненадежны недавние сторонники и сколь беспощадны тайные враги [5, с. 90]. «И довершило мои бедствия то, что суждение большинства принимает во внимание и [ставит] в заслугу не дела, но удачу, и считает достойным лишь то, что приносит счастье. – пишет Боэций. – Скажу лишь, что тяжелейшим бременем враждебной Фортуны является то, что, как только несчастных обвинят в каком-либо вымышленном преступлении, [все] сразу поверят, что они заслужили выпавшее на их долю» [6, с. 74].
Тянется жалкая жизнь, — длится постылый мой век. Как нас хвалили друзья, превозносили за счастье, Только нестойким был тот, кто тяжело так упал! [7, с. 83]
Философия, явившаяся в темницу к Боэцию, сказал ему, что Фортуна дает счастье взаймы, поэтому человеку следует по справедливости возвратить счастье Фортуне, а все несчастья и страдания человека вполне законны и естественны. Фортуну можно только похвалить за то, что она сама свидетельствует о своем непостоянстве и о внутреннем ничтожестве ее даров [8]. Представления Боэция о судьбе в корне расходятся с теми, что веками формировались в языческом миропонимании. Определяя право Фортуны, Боэций сравнивает его с чередуемостью и повторяемостью природных явлений: «Ведь разрешено небу рождать светлые дни и погребать их в темных ночах…. У моря есть право то ласкать взор ровной гладью, то ужасать штормами и волнами... Наша [Фортуны] сила заключена в непрерывной игре – мы движем колесо в стремительном вращении и радуемся, когда павшее до предела возносится, а вознесенное – повергается в прах» [9, с. 228]. Напряженное переживание человеком Cредневековья конфликтности мира стало характерным для средневекового понимания Фортуны [10, с. 93].
Размышления о судьбе и Фортуне у Боэция непрестанно соотносятся с понятием Божественного Провидения. Боэций признает, что все подчиненное судьбе подчинено и Провидению, которому подчинена и сама судьба. Судьба у Боэция полностью утрачивает характер слепой и неуправляемой силы, довлеющей над человеком; напротив, она описывается как порядок (ordo), который, происходя из божественной простоты, содержится в самих вещах, то есть имманентен сущему. Фортуна оказывается включенной в эту провиденциальную схему как иррациональная и немотивированная сила только из-за того, что людьми не познано ее разумное устройство [11, с. 115]. Понятие судьбы в понимании Боэция перестает быть безличной и неизбежной необходимостью, иррациональной и непредсказуемой. Хотя она напрямую связана с Провидением, тем не менее допускает изменения предопределенного во времени. Новый момент в понимании Фортуны заключен и в пристрастно-личностном ее приятии и переживании философом. Трактат Боэция «Утешение философией», написанный им в тюремной камере перед казнью, стал излюбленным чтением образованных людей в Средние века, завоевав репутацию «книги Фортуны». Колесо с помещенным на него человеком вводится в культуру Боэцием, становясь в Средневековье главным символом Фортуны.
Фортуна – один из символов, имеющих личностное наполнение для Абеляра и Элоизы, переменчивость судьбы которых находила отзвук в их бессмертной переписке. Рассматривая письма Элоизы к Абеляру, Л. Баткин делает вывод о том, что «человеческий масштаб и одаренность автора делают эти тексты наиболее индивидуальными в своем роде за всю историю Средневековья» [12, с. 191]. После разлуки с возлюбленным не перестающая тосковать о нем Элоиза пишет: « Милостивый Бог, – да не осмелюсь я сказать такое! – Ты жесток ко мне! О, милость, лишенная милости! О, Фортуна, слепая и беспощадная, способная отвесить только горький удел! » [13].
В ответе Абеляра содержится понимание справедливости того, что за видимостью немилосердной слепой Фортуны скрывается благая воля Творца: « Прошу тебя, сестра моя, терпеливо принимай все, что в милости Своей Бог посылает нам… Бог ранит тело и исцеляет душу, дает жизнь обреченному на погибель и отсекает нечистое ради сохранения чистого, наказывает однажды, дабы не наказывать в вечности » [14].
Жизнь и сочинения Абеляра оказали значительное влияние на средневековую словесность, в том числе на поэзию вагантов. Ваганты видели царящую в мире нестабильность, переменчивость счастья и несправедливость в распределении земных благ. Воплощением этой переменчивости земного существования в школярских песнях выступала Фортуна, образ анархического и беспринципного бытия, не карающая за грехи и не вознаграждающая за добродетели, абсолютно равнодушная к заслугам. Фортуна в поэзии вагантов не соотнесена с божественным предопределением и десакрализована. Хаотичность действий Фортуны делает ее неуправляемой и, по представлениям вагантов, не дает возможности ей противостоять, предугадать, что принесет завтрашний день. Следствием осознания вагантами непрочности даров Фортуны становится призыв наслаждаться и жить одним днем, нашедший воплощение в славящих жизнь школярских гимнах и застольных песнях [15, с. 15].
Колесо фортуны
Слезы катятся из глаз, арфы плачут струны. Посвящаю сей рассказ колесу Фортуны. Мнил я: вверх меня несет! Ах, как я ошибся, ибо, сверзшийся с высот, - 54 - вдребезги расшибся и, взлетев под небеса, до вершин почета, с поворотом колеса плюхнулся в болото [16, с. 52].
К исходу Средневековья тема Фортуны, долгое время пребывавшая на периферии культуры, придвигается к ее авансцене, обретая устойчивую традицию, как словесную, так и изобразительную.
Для человека эпохи Возрождения становится характерно тревожное внимание к Фортуне, желание уяснить ее суть. Новым является появившийся в это время мотив активного противодействия человека Фортуне, хотя мотивы бегства от Фортуны или подчинения ей также присущи представлениям мыслителей Возрождения. Данте писал, что перечить Фортуне глупо и опасно.
Фортуна под лучами божества, Ни слез не замечая, ни презренья, Парит среди созданий неземных, Что к нам явились в первый день Творенья, Блаженствует средь радостей иных, И катит шар свой... [17].
Если ранние гуманисты создавали концепции, во многом совпадавшие со средневековыми учениями о судьбе, мыслители кватроченто уже если не освобождаются от влияния теологических идей, то обращаются с ними с большой степенью свободы. Так, у Макиавелли обозначился отход от традиционного употребления Фортуны и понимание возможности не только как подчинения, но и как противодействия Фортуне. В «Государе» он говорит: «Я знаю, сколь часто утверждалось раньше и утверждается ныне, что во всем мире правят судьба и Бог, люди же с их разумением ничего не определяют и даже ничему не могут противостоять; отсюда делается вывод, что незачем утруждать себя заботами, а лучше примириться со своим жребием… Я предположу, что, может быть, судьба распоряжается лишь половиной всех наших дел, другую же половину или около того она предоставляет самим людям… Если государь всецело полагается на судьбу, он не может выстоять против ее ударов. Я думаю также, что сохраняют благополучие те, чей образ действий отвечает особенностям времени, и утрачивают благополучие те, чей образ действий не отвечает своему времени» [18]. Вместе с тем в «Рассуждениях на первую декаду Тита Ливия» Макиавелли пишет о том, что люди могут содействовать Фортуне, но не препятствовать ей, они «могут замышлять против нее, но не в силах победить ее» [19, с. 51].
Литературную традицию Фортуны в Германии раннего XVI в. представляют сочинения Ульриха фон Гуттена, для которого характерно напряженное стремление охватить воплощенную в Фортуне стихию жизни, использовать до конца открывающиеся в ней возможности, – пишет отечественный автор Т.М. Котельникова [20, с. 95]. В облике Фортуны проступает лик самой жизни, которую поэт стремится покорить – так же, как он стремится подчинить себе «царицу всякого изменения» Фортуну, завладев не самой ею – удачей. К середине XVI в. драматизм в изобразительных трактовках Фортуны заметно спадает, уступая место повествовательному началу, в котором примиренными соседствуют и античные реминисценции (уже более точные, почти археологические по характеру), и средневековые наслоения.
В период перехода к Новому времени мир впервые теряет отказ от целевой и формальной аристотелевских причин, делается конструктом, механизмом, сродни часовому (барокко зачастую именуют веком часовщиков, поскольку искусство часовых дел мастеров расцветает в эту эпоху). Человек более не ощущает над собой простертую длань Бога, он слишком погружен в мирскую жизнь, в которой здесь и сейчас он должен непременно добиться успеха. Наконец, впервые частная, приватная жизнь человека отделяется от публичной политической жизни. Разрывается, разъединяется мир погруженного в суетную обыденность жизни человека и судьбы мироздания, мудро управляемой волей всеведущего Бога. Фортуна превращается из символа в аллегорию, теряя непостижимую разуму глубину смысла и становясь персонификацией понятия судьбы.
Так изменения в способе бытия человека в культуре, а также изменение способов и характера осмысления и переживания этого бытия изменили содержание символа непостоянства – Фортуны, сохранив лишь изобразительный образ, утративший былую символическую глубину.
Список литературы Фортуна как символ изменчивости жизни в европейской культуре от Античности до Нового времени
- Родзинский Д.Л. Образы античной идеи судьбы и их роль в формировании этических добродетелей мудреца: автореф. дис. … канд. филос. наук. -М., 1999.
- Художественно-исторический музей. Фортуна, дарующая любовь . URL: http://smallbay.ru/artbarocco/reni_06.html (дата обращения 05.06.2015).
- Аверинцев С.С. Неоплатонизм перед лицом платоновской критики мифопоэтического мышления. Образ античности. -СПб.: Азбука-классика, 2004.
- Блаженный Августин. О граде Божьем. Творения Блаженного Августина, епископа Иппонийского. Изд. 2-е. Ч. 3. -Киев, 1906.
- Уколова В.И. «Последний римлянин» Боэций. М., 1987.
- Уколова В.И. Фортуна в мире западного Средневековья//Вестник истории, литературы, искусства. Т. 1. -М.: Собрание; Наука, 2005.
- Боэций. Утешение философией и другие трактаты. -М.: Наука, 1990.
- Лосев А.Ф. История античной эстетики. Т. VIII. Кн. I. -М.: Искусство, 1992.
- Anicii Manlii Severini Boetii Philosophiae consolationis. Libri quinque. Rec. Peiper R. Lipsiae. 1871./Рус. пер.: Боэций. Утешение философией и другие трактаты. -М.: Наука, 1990.
- Котельникова Т.М. Тема Фортуны у Ульриха фон Гуттена и в немецкой изобразительной традиции//Культура Возрождения XVI века. -М.: Наука, 1997.
- Стасюк Ю.А. Преодоление судьбы в «Утешении философии» Боэция//Наука. Университет: мат-лы II науч. конф. -Новосибирск, 2001.
- Баткин Л.М. Европейский человек наедине с собой. -М., 2000.
- Причал. Христианское творчество. Переписка Абеляра и Элоизы. Письмо 3-е . URL: http://www.priestt.com/rtvor/rtvor_725.html (дата обращения 05.06.2015).
- Матерова Е.В. Поэзия вагантов: генезис и жанры: автореф. дис. … канд. филол. наук. -М., 2007.
- Лирика вагантов в переводах Льва Гинзбурга. Колесо Фортуны. -М.: Художественная литература, 1970.
- Данте о Фортуне . URL: http://mylove.ru/mariya30575/diary/dante-o-fortune/(дата обращения 10.06.2015).
- Макиавелли Н. Государь . URL: http://lib.ru/POLITOLOG/MAKIAWELLI/gosudar.txt (дата обращения 10.06.2015).
- Кудрявцев О.Ф. Античные представления о Фортуне в ренессансном мировоззрении. Античное наследие в культуре Возрождения. -М.: Наука, 1984.
- Котельникова Т.М. Тема Фортуны у Ульриха фон Гуттена и в немецкой изобразительной традиции. Культура Возрождения XVI века. -М.: Наука, 1997.