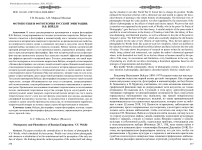Фотопоэзия и фототеория русской эмиграции: В.В. Вейдле
Автор: Волкова Галина Викторовна, Марков Александр Викторович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Филология плюс…
Статья в выпуске: 2 (53), 2020 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются противоречия в теории фотографии В.В. Вейдле, стимулировавшие его позднее поэтическое творчество. Вейдле критически относится к фотографии и кинематографу как к подмене искусства развлечением и восприятием поверхности предметов, но размышления над свойствами поверхности самого медиа и изменение ситуации в искусстве после Второй мировой войны заставили его изменить позицию. Вейдле заменил исторический критерий риторическим и стал противопоставлять украшенную риторику живописи и простую риторику фотографии. При этом исторический взгляд на фотографию внутри ценностного анализа был вытеснен оценкой эффектов фотографии как эффектов простой и искренней речи. В статье доказывается, что такой переход был поддержан и поэтическим творчеством Вейдле, который в стихотворении «Похвала фотографии» дал ключи к своей поздней теории. Внимательный анализ стихотворения позволил вскрыть в нем отсылки к истории царскосельского парка, истории русской драматургии и театральной практики, а также намеки на сюжет стихотворения в прозе Тургенева «Мы еще повоюем», которое тоже по сути оспаривает старую риторику жеста ради новой риторики непосредственного чувства. Тем самым примирение Вейдле с фотографией оказывается частью такой поздней «простоты», которая обосновывается как отказ от риторики, дискредитированной политическими злоупотреблениями и поспешным вписыванием в ценностные ряды. Проведенное исследование показывает перспективность исследования поэзии, написанной теоретиками искусства, которая будучи «культурной» и интертекстуальной, может раскрыть теоретический подход автора там, где в самом теоретическом тексте у него или нее фигуры умолчания или лакуны, вызванные спецификой изложения в эссеистике, ее условностями и ограничениями, или же сломами в самом способе производства искусства, не позволяющими выработать теоретический аппарат на основе старых стратегий аргументации и описания.
Вейдле, фотография, теория фотографии, поэтика, теория культуры, интенция в фотографии, фигура умолчания, украшенная речь, риторичность, простой стиль
Короткий адрес: https://sciup.org/149127436
IDR: 149127436
Текст научной статьи Фотопоэзия и фототеория русской эмиграции: В.В. Вейдле
Владимир Васильевич Вейдле (1895-1979) хорошо известен как ведущий теоретик искусства первой волны русской эмиграции. Как теоретик новых визуальных искусств, фотографии и кинематографа, он был близок В. Ходасевичу и П. Муратову, считавшим, что сами механизмы кинематографической фиксации сцен не подразумевают акта искусства, но только аттракцион. По выводам Д.А. Сухоевой, в этом кругу деятелей русской эмиграции отрицание за кинематографом возможности быть искусством определялось наблюдением над медиумом, как некоей поверхностью пленки, фиксирующей поверхность явлений, но также принципиальной непроницаемостью тех ценностных предпосылок, которые стоят за любовью к кино [Сухоева 2018, 54]. Ценности аттракциона, наблюдения как развлечения, просто неприемлемы для теоретика, для которого искусство должно идти дальше наблюдений, чтобы состояться как искусство. Как показала Т.Н. Фоминых, Вейдле и стремился пойти дальше, заглянуть и по ту сторону культурных мифов, увидев, например, за расхожим культурным мифом о зеркалах, стеклах и гладких водах Венеции гадание о судьбах культуры и собственной судьбе, гадательные приборы, относящиеся уже к экзистенциальному выбору [Фоминых 2013, 130], чему можно найти и параллели в нынешних фото- и киномифах Венеции [Джумайло 2018]. Поэтому мы предварительно формулируем гипотезу, что для того, чтобы эти размышления о будущем культуры и о зеркалах и магических кристаллах судеб не соскользнули в поверхностные «кинематографические» наблюдения, Вейдле расширял диапазон речевых стратегий, употребляя такие про-

анализированные Т.Н. Фоминых жанры, как путевой очерк, похвальное слово, искусствоведческий труд, фельетон, наконец, стихи, которые уже в отличие от всех предыдущих жанров нельзя встроить в эссеистическую работу, но приходится публиковать отдельно.
Если стихи Вейдле представляют собой одну из граней его теории современного искусства, одну из необходимых для всей теории разработок, но при этом по форме не могут стать частью теоретического рассуждения, оставаясь лирическим высказыванием, можно ожидать, что в этих стихах та же теория будет освещена с другой стороны и, возможно, окажется не тем, чем казалась ранее. Ограничимся одним примером, наиболее показательным, как отвечающим на вопрос, почему взгляды Вейдле на фотографию не могут быть сведены к какой-то одной формуле и почему они наилучшим образом отвечают стремлению зарубежной фотографии «визуализировать сопряжение различных исторических эпох» [Волкова, 2019].
В своей знаменитой книге «Умирание искусства» (1937) Вейдле говорит о фотографии двойственно. С одной стороны, он видит в ней необходимый сегмент искусства, прямо следующий из наличия у всего искусства, развивающегося в рамках единого эстетического процесса, прагматики, не сводящейся к прагматике отдельных произведений и потому не позволяющей окончательно отвергнуть что-либо из принадлежащего этому процессу. Но с другой стороны, мыслитель считает опасными для искусства притязания фотографа на звание художника, допуская фотографию только как научный инструмент [Вейдле 2016, 101-103]. В связи с названной прагматикой Вейдле вспоминает малых голландцев, которые как авторы пейзажей и натюрмортов стояли ближе к фотографам, чем к живописцам того же времени, писавшим на религиозные или исторические сюжеты. Также Вейдле говорит, что гравюра, которая могла сниматься со сколь угодно виртуозного произведения искусства, тоже имеет прагматику фотографии, более того, совпадает с ней не только в конечной точке воздействия на публику (прагматики), но и исходной точке возникновения (интенции), представляя собой взгляд на картину с зафиксированного места. Таким образом, фотография была еще до своего технического возникновения предназначена для того, чтобы оказаться встроенной в художественный процесс.
Но в этом же рассуждении Вейдле делает замечание, что как бы уже доказано самим развитием фотографии: при всей мнимой точности фотография «механически воспроизводит, но и механически искажает мир», точно так же как и плохая копиистика. И там, и там наблюдается господство «заранее готовых, мертвенных, механических приемов» [Вейдле 2016, 101], а значит, налицо и инерция воспроизводства этих приемов, инерция готового ракурса, готового колорита. Такие инерция поддерживается объективными недостатками самого медиума, упрощающими изображение: оно оказывается плоскостным, с однозначной фокусировкой, усиливающей эту двумерность, черно-белым, непропорционально увеличенным в случае приближения. Вейдле не рассматривал раскрашенных или цветных

фотографий, но так же точно теоретики искусства, стоящие на позициях, близких Вейдле, например, Л.А. Успенский, говорили об условности цветов фотографии - из этого Успенский выводил недопустимость использования фотокопий икон в качестве икон [Успенский 1988, 65], и в этом смысле цветная фотография не отличается от раскрашенной.
Тогда фотография оказывается не-искусством или антиискусством, потому что она уничтожает те планы, которые придавали искусству глубину восприятия, а значит, и глубину экзистенциально значимого толкования. Если в картине есть планы, в фотографии остается только один передний план, намертво закрепленный самим медиумом фотографирования. «Светочувствительная пластинка дает двухмерное и бескрасочное, т.е. вполне условное, изображение видимого мира; объектив непомерно увеличивает размеры предметов, выдвинутых на передний план; существуют и другие чисто механические искажения видимости, проистекающие из устройства фотографического аппарата» [Вейдле 2016, 102]. Именно в этом Вейдле усматривал главную опасность фотографии для искусства: мы будем принимать за настоящую живописность такую упрощенную копию, что уже, по мнению мыслителя, и происходит в кино: «<...> можно указать на идиотическое стремление современного кинематографа давать уже не копию, а прямо-таки дублеты не только видимого, но и вообще чувственно воспринимаемого мира» [Вейдле 2016, 102].
Но заклеймив фотографию как вещь званием антиискусства, Вейдле замечает в соответствии с первым тезисом, что само развитие фотографии было близко развитию искусства. «Если импрессионист изображал вместо целостного мира лишь образ его, запечатленный на сетчатой оболочке глаза, то от сетчатки к объективу не такой уж трудный оставался переход. Если Пикассо и кубисты вслед за ним отказались от всякого “почерка”, от всех личных элементов живописного письма, превратили картину в сочетание ясно очерченных плоскостей, равномерно по-малярному окрашенных, то этим они расчистили путь картине, от начала до конца изготовленной механическим путем, к которой как раз и стремится современная фотография» [Вейдле 2016, 101]. Итогом всех этих приближений и рас-суждений становится признание того, что фотография - искусство, способное создавать только один план, механически оживленный, раскрашенную «по-малярному» плоскость переднего плана. В этом смысле, согласно Вейдле, любое безличное искусство фотографично, а любая фотография, использующая приемы современного искусства, такие как монтаж, может стать частью современного искусства. Так, монтажная фотография вполне сюрреалистична.
Получается, что фотография, будучи плоскостным упрощением искусства, может совпасть с искусством как таковым, например, в ассамбляже, где всякий план оказывается первым, как только к нему оказывается прикреплено что-нибудь еще, как в «Мерце» Курта Швиттерса. Живопись и фотография могут сойтись, если не только способ фиксации станет механическим, но и фиксируемый предмет, как предмет интенционального
внимания, окажется лишь случайной совокупностью предметов. «Можно приготовить для фотографирования и столь произвольное сочетание неживых вещей, что фотография покажется совершенно беспредметной» [Вейдле 2016, 101]. Таким образом, Вейдле признает фотографию как в пределе совпадающую с беспредметным и сюрреалистическим искусством, что Вейдле не одобряет исходя из вкусовых предпочтений, но формально признает, что фотография тогда и есть искусство в том мире, где все стало ценностно и этически плоским. Заметим, что рассмотрение интенциональности в фотографии в современной науке ведет к совершенно другим выводам [Колотаев 2017].
Но в более поздней статье «О любви к стихам», вошедшей в итоговую книгу «О поэтах и поэзии» (1973), Вейдле понимал отношение живописи и фотографии иначе, что они никогда не сойдутся. Вейдле пишет: «Мы забываем, что плохой пейзаж все-таки - живопись, а не фотография и не географическая карта, и что отличие плохих стихов от объявления в газете “по человечеству” важней, чем их отличие от хороших стихов» [Вейдле 1973, 188]. Иначе говоря, здесь ценностный критерий, выражающийся в правильном распределении планов и возможности оценки, что именно находится на интересующем нас плане, заменяется формальным. Фотография принадлежит миру оформления, фиксации, тогда как живопись -миру трансформации форм, а не их запечатлению в имеющемся виде.
Сразу возможно предположить, что наш мыслитель реагировал уже на послевоенное искусство, в котором беспредметность становится уже не предметом представления, а самим принципом и организации, и функционирования произведения. Если находиться в этой точке послевоенного искусства, то невозможно различать планы и соответствующие ценностные ряды, а нужно ограничиться только критерием, что именно происходит с формой. Просто из этой новой точки не видно ничего, что делает фотографию искусством, не видно совпадения плоскостного плана с плоскостью абстракций, хотя бы по той причине, что искусство уже не производит никаких планов восприятия, а занято совсем другим. Но все же мы не решили противоречие между тем, что прежний подход Вейдле был полностью историческим, тогда как новый подход просто не подразумевает никакой истории, внеисторичен. Этому перелому от раннего к позднему интеллектуальному творчеству должно быть какое-то объяснение, и оно находится в поэзии Вейдле.
Стихотворение В. Вейдле «Похвала фотографии», написанное в июне 1978 г. [Вейдле 1979, 28], представляет собой гекзаметрическое описание одной из фотографий, выполненных в 1890 г, когда Я.П. Полонский с семьей гостил в имении Воробьевка у А.А. Фета:
Два старика на скамье под деревьями: Фет и Полонский, Седобородые оба, кряжисто-крепкие оба, -
Боже, какие у них пиджачищи, штаны, сапожищи!
Девятнадцатый век, тяжело шагая к закату,
Взращивать пренебрегал «Феокритовы нежные розы» -Ведь уже и Толстой, Алексей, в лицо рассмеялся стихами Деве (с разбитою урной), Пушкиным славно воспетой.
Но старики повоюют. Полонский выпрямил плечи, Жестом ораторским, или «гражданским», руку приподнял, Зычно сейчас зазвучит надтреснутый старческий голос; Фету стихи он прочтет, а тот, добродушно нахмурясь, Приготовляется слушать, сам, в свой черед полагая Другу еЩе Раз поведать о «шепоте - робком - дыханье», Миру всему показав, что музы их живы и юны.
Слава фотографам! Их небожественной матери слава! Живописцы, ваятели всех веков простодушно старались Встретить в поэте поэта, явить его миру поэтом.
Редко того достигая, прибегали к нарядам, эмблемам...
Нынче все их потуги пресек правдивый фотограф: Нас он, лаврам наперекор и всем аллегориям, учит, Что поэты - люди как люди; разве только, быть может, Светочувствительней прочих. А свет - и поэзия - в Боге.
Стихотворение о единомышленниках [Коковин, 2010] получило автокомментарий: «К стихотворению “Похвала фотографии”. Оно имеет в виду снимок, изображающий Полонского в гостях у Фета, 80-х годов, воспроизведенный напротив стр. 320, в Полном Собрании Стихотворений Фета, Библиотека Поэта, 1959. - А.К. Толстой высмеял Царскосельскую деву Пушкина двустишием:
Чуда не вижу я тут. Генерал-лейтенант Захаржевский, В урне той дно просверлив, воду провел чрез нее» [Вейдле 1979, 73].
В первой строфе подчеркивается вид изображенных на фотографии героев: они не просто чувствуют себя своими в деревне, в усадьбе, но они уже вжились в эту жизнь, разделили общую судьбу с усадебной природой, стали такими же кряжистыми, как вековые дубы, такими же основательными, как чернозем. Строка «Девятнадцатый век, тяжело шагая к закату», сразу сбивающая с ритма двумя хореями, как бы отрицает наследие Фета, который обычно передавал гекзаметр довольно гладким шестистопным дактилем. Здесь важна метафора заката, которая обычно относилась в русской поэзии к гражданским перипетиям, означала то, что уже светила не благоволят земным судьбам, «закат звезды его кровавой». И тогда становится понятно, почему как пример поэта, сделавшего уступку нигилизму, приведен А.К. Толстой, совсем не предназначавший для печати свои пометки на стихах Пушкина. Это связано с опасностью подмены экзистенциального гражданским, даже невольной, спровоцированной просто свой-
ствами метафорической речи, независимо от намерений автора.
Дело в том, что на самом деле водопроводную систему в царскосельском парке отладил в 1809-1810 году инженер Августин Бетанкур, в том числе и проведя воду из Катального родника (старого водопровода, утратившего функциональный смысл после строительства Таицкого водопровода) так, чтобы фонтан «Молочница» постоянно работал. Бетанкур выбрал и место для статуи, где кончался водоотвод, и способ установки: по сути, он должен был декорировать один из старых кранов. Ученик и помощник Бетанкура, Франциск Каннобио, отвечавший за состояние водопровода, 16 июня 1816 года рапортовал: «Состоящий в верхнем царскосельском саду вновь построенный каскад с алебастровой фигурою, переведен ныне в совершенный свой порядок и совсем окончен». Это говорит о том, что фигура оставалась алебастровой, то есть была на самом деле алебастровой копией гипсовой формы, изготовленной скульптором Павлом Соколовым по личному заказу Бетанкура.
Значит, бронзовой она стала, судя по всему, только после того как в феврале 1817 года управлять царским селом стал Я.В. Захаржевский, которому и подчинялись все дворцовые службы и полиция. Генерал-лейтенантом, а также губернатором Царского села как «дворцового города» он сделался гораздо позднее, но здесь это не так важно, в таком звании он мог всем запомниться, и в таком звании он был на момент написания стихотворения Пушкина. Нам просто важна дата 1817 год, дата, когда, судя по всему, одной из первых реформ новоназначенного руководителя стала замена алебастровой статуи на бронзовую, отлитую в мастерских Императорской Академии Художеств. Иначе говоря, насмешка А.К. Толстого, конечно, имела политический смысл: администратор-бюрократ, руководитель нового типа, подчиняющий себе все хозяйство, конечно, исключает любые чудеса: даже произведения искусства и то чудесное впечатление, которое они производят, подчиняются системе правильных бюрократических распоряжений. Тогда как для Вейдле не существует этого суетливого политического плана, но только эстетический, о чем говорит и дальнейшая его собственная насмешка над «гражданским» жестом, а шире, как мы увидим, над лживостью риторики вообще. Для Вейдле А.К. Толстой смеется над Пушкиным, а не над бюрократами, и эта ангажированность чистого душой и искреннего поэта проистекает из собственных эффектов украшенной речи, непредсказуемых эффектов речевых жестов, из их обманчивой действительности.
Выражение «гражданский жест» из стихотворения Вейдле необычно: оно неупотребимо в литературе XIX века, и представляет собой, как мы только что сказали, дальнейшую насмешку над гражданской поэзией. И в ораторской, и в театральной теории XIX века, в том числе в многочисленной журнальной критике, жестом называлась вовсе не поза, как мы могли бы подумать, но умение держаться на сцене. К жестам относилось как умение сделать запоминающийся зрителям поклон, так и навык удержаться во время поклона, как бурное выражение чувств, так и сокрытие
своих чувств, как соблюдение на сцене тех условностей благообразного поведения, которые мы встречаем в нашей обычной жизни, так и особые условности сценической игры, диктуемые отличием сцены от нашей привычной обстановки.
Поэтому, конечно, здесь мы наблюдаем не указание на театральность фотографии, ведь наоборот, позы на фотографии довольно естественные, но насмешку над гражданским пафосом, который противоречил в том числе и этому техническому смыслу понятия жеста. Итак, Вейдле отрицает гражданский пафос, любую технику жеста, а значит, любую риторику как ведущую к подрыву позиций искусства, но что предлагает взамен? Поздний Вейдле совпадает с тогдашним актуальным искусством, отказывающимся от прежней образности ради радикального собственного присутствия в мире, но только наш мыслитель не располагает теоретическим языком актуального искусства и пускает в ход нечто заведомо внешнее теории с ее способами аргументации - поэтическую басню, которая должна намекать на другую басню, и в конце статьи мы выясним, на какую.
Ключевым для нашего вывода оказывается слово «наряд» в последний строфе. Это, конечно, не только одежда (раз описывается специфика поэтического творчества вообще, а не только способы наглядно представить поэта), но и риторический термин ornatus, украшение, любое отклонение от общей речи, противопоставление украшенной речи простой речи. Наряд сопоставляется с эмблемой, как уже не просто свойством речи, но режимом представления самого предмета. Лавр - это и наряд, как сравнение поэтической славы, и эмблема, и аллегория. Для Вейдле важно, что фотография может обойтись без нарядов, без эмблем и аллегорий тоже, ограничившись почти тавтологической простотой.
Теперь становится понятна и позиция позднего Вейдле относительно фотографии. Все же ornatus есть и в плохом пейзаже, но не в хорошей фотографии, которая может повоевать еще за реальность вне аллегорий и метафор, которые так легко оборачиваются насмешкой и политическим злоупотреблением. Как только жесты перестали быть вопросом эстетического и практического равновесия на сцене, а стали предметом исключительно оценки, так и возникла нужда в такой новой неслыханной простоте фотографии.
Итак, уже многое прояснилось. Для Вейдле времен «Умирания искусства» фотография привнесла новое понимание жеста, уже не как многопланового поведения, а как аттракциона, обращающего на себя внимание простого решения на каком-то одном плане фиксации. Тогда как для позднего Вейдле уже важно не то, что под жестом понимается исторически, а как именно возможно искусство с риторическими фигурами и как оно возможно без риторических фигур, что напоминает поиски Романа Якобсона в его «грамматике поэзии» [Якобсон 1983]. В таком случае осталось только установить, что именно подвигло Вейдле на такое изменение.
Ключ мы нашли: это проницательное прочтение стихотворения корреспондентом Вейдле И.В. Чинновым, который трактовал этот стих как сти-
хотворение «о двух senior citizens, двух elderly» [Чиннов 2002, 66], употребив англизмы с целью показать некоторый космополитический стандарт фотографии как искусства. В словах «но старики повоюют» Чиннов узнал цитату - название стихотворения в прозе И.С. Тургенева «Мы еще повоюем» (1879) [Тургенев 1982], о смелом воробье, который не боится кружащегося над ним ястреба. В этом стихотворении в прозе происходит интересное столкновение двух планов, субъективной воинственности воробья и фатальности присутствия ястреба, и несводимость этих планов, вдруг увиденная на солнечной дороге, и позволяет сказать «Мы еще повоюем» не только от лица воробья, которому, может быть, всего ничего осталось жить, но и от своего, человеческого имени, создав уверенное лирическое высказывание. Важным оказывается не то, какой план подчеркнут (как это было в ранней фототеории Вейдле), но то, что и практика украшенной речи может быть уверенной и смелой, а практика неукрашенной речи -еще более смелой.
Хотя ассоциация с тургеневской миниатюрой могла быть вызвана в уме Чиннова и тем, что фотография была сделана в Воробьевке, она лучше всего позволяет понять, что произошло в теории Вейдле, окончательно расставшейся с риторическими иллюзиями. В тургеневском рассказе о воробье, где тоже как бы должен быть сначала «наряд», драматическая ситуация в духе Гесиода о ястребе и воробье. Дальше кажется, что вот нагрянет аллегория, поскольку где хищная птица - там эмблема. Но заканчивается миниатюра просто настроением и необходимостью запечатлеть это настроение. Здесь позиция Вейдле сходится с экспериментами с живыми портретами и живой фотографией в массовой программной литературе наших дней [Самаркина, 2016].
Тогда и слова Вейдле, что поэты «[с]веточувствительней прочих», оказываются связаны с этим настроением солнечной дороги, по слову Тургенева, расцвеченной, «раззолоченн[ой] ярким летним солнцем», а светочувствительность - с такой сменой настроения: «Какая ничтожная малость может иногда перестроить всего человека!» Так фотография находит свое оправдание уже как способ передачи не вещей, но настроений. Передачи ради того, чтобы изменить всего человека, когда уже можно отказаться от любых риторических украшений, как от них отказался и Тургенев в этом стихотворении в прозе, прийти к небывалой прежде простоте и думать не столько о планах изображения, сколько о том, что «мы еще повоюем».
Итак, Вейдле после перелома в искусстве в середине XX века, окончательного расставания с какими-либо задачами прежней образности столкнулся с тем, что старые стратегии ценностного описания и искусствоведческого анализа не работают. Вместе с тем несомненна способность различных видов искусства воздействовать на человека, а значит, прагматические задачи искусства сохраняются. Осознанно или нет, Вейдле обратился к поэзии, не находя в критической прозе средств обозначить, как работает эта прагматика, если прежней корреляции изображаемого и медиа («плоскость фотопленки» и «плоская современная жизнь»), поддерживаемой
метафорой, например, метафорой плоскости, уже нет. Поэтому надлежало найти способ говорить об искусстве без метафор.
В своей эссеистике Вейдле прямо не осмеливался еще говорить о фотографии как о простом и прямом искусстве, это противоречило его ценностным привычкам. Но в поэзии, особенно как будто отстаивавшей консервативный идеал против политической ангажированности, это оказалось возможным. Анализ стихотворения и нахождение интертекстов показали, что на самом деле Вейдле понял ограничения не столько фельетонного или политического употребления поэзии, сколько более масштабные ограничения прежней «украшенной» риторики. Вместе с Тургеневым и вместе с современным искусством, глядя на фотографию и идеализируя ее, он выбирает простоту как лучшее оружие против любых риторических злоупотреблений.
Список литературы Фотопоэзия и фототеория русской эмиграции: В.В. Вейдле
- Вейдле В. На память о себе. Стихотворения 1918-1925 и 1965-1979. Париж, 1979.
- Вейдле В. О поэтах и поэзии. Париж, 1973.
- Вейдле В. Умирание искусства: Размышления о судьбе литературного и художественного творчества. Москва; Берлин, 2016.
- Волкова Г.В. Фотодокументы в контексте актуальных проблем источниковедения российского зарубежья XX - начала XXI веков // Вестник РГГУ Философия. Социология. Искусствоведение. 2019. № 4. (В печати).
- Джумайло О.А. «Венецианский текст» и эстетика отражений в фильме Пола Шредера «Утешение странников» по роману Иэна Макьюэна // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2018. Т. 10. № 4. С. 118-124.
- Коковин А.Ф. А.А. Фет и Я.П. Полонский: биографические и творческие связи: дис. ... к. филол. н.: 10.01.01. Тверь, 2010.
- Колотаев В.А. Фотоискусство как система поэтически эксплицируемых репрезентаций // Артикулы. 2017. № 25(1). С. 18-32.
- Самаркина М.Д. Фотография в цикле романов о Гарри Поттере // Артикулы. 2016. № 24(4). С. 67-72.
- Сухоева Д.А. Осмысление феномена кинематографа в творчестве В.Ф. Ходасевича периода эмиграции: от 1920-х к 1930-м гг. // Артикулы. 2018. № 31(3). С. 52-59.
- Тургенев И.С. Мы еще повоюем // Тургенев И.С. Полное собрание сочинений: в 30 т. Т. 10. М., 1982. С. 171-172.
- Успенский Л.А. Богословие иконы Православной Церкви. Берлин, 1988.
- Фоминых Т.Н. Венеция в стихах В.В. Вейдле // Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология. 2013. № 2. С. 126-131.
- Чиннов И.В. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2. М., 2002.
- Якобсон Р. Поэзия грамматики и грамматика поэзии // Семиотика. М., 1983. С. 462-482.