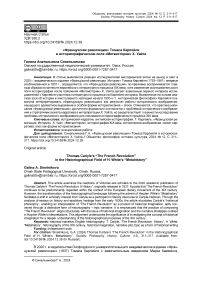«Французская революция» Томаса Карлейля в историографическом поле «Метаистории» Х. Уайта
Автор: Синельникова Галина Анатольевна
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 12, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье выявляется реакция исследователей викторианской эпохи на выход в свет в 2020 г. академического издания «Французской революции. Истории» Томаса Карлейля (1793-1881), впервые опубликованной в 1837 г.; определяется, что «Французская революция» по-прежнему воспринимается главным образом в контексте европейского литературного процесса XIX века, хотя изменение исследовательского поля историографии после появления «Метаистории» Х. Уайта делает возможным перенос интереса исследователей с Карлейля-участника литературного процесса на Карлейля-историка. Выявленная на основе анализа эссе об истории и эпистолярного наследия начала 1830-х гг. «историческая философия» Карлейля позволила интерпретировать «Французскую революцию» как результат работы исторического воображения, нашедшего адекватное выражение в особой форме историописания - эпосе. Отмечается, что практика написания «Французской революции» достаточно формально соотносится с проблемой исторического воображения и стратегиями сюжета нарратива в интерпретации Х. Уайта, но свидетельствует о важности исследования проблемы исторического воображения для понимания историографического процесса XIX века.
Исторический нарратив, английская историография, т. карлейль, «французская революция. история», х. уайт, «метаистория», историография xix века, историческое воображение, сюжет нарратива, эпос как форма историописания
Короткий адрес: https://sciup.org/149147087
IDR: 149147087 | УДК: 930.2 | DOI: 10.24158/fik.2024.12.39
Текст научной статьи «Французская революция» Томаса Карлейля в историографическом поле «Метаистории» Х. Уайта
Омский государственный педагогический университет, Омск, Россия, ,
,
В 2020 г. в издательстве Оксфордского университета вышло академическое издание «Французской революции» (1837) Томаса Карлейля с замечательным введением Марка Камминга,
научным обзором трудов Карлейля и исследований о нем Дэвида Соренсена, тщательно выверенным Марком Энгелем и Брентом Э. Кинсером текстом, а также рядом дополнительных материалов, включая хронологию ключевых событий как жизни великого викторианца, так и Французской революции1. Очевиден итоговый характер этого во многих смыслах образцового издания как с точки зрения научной карьеры участников проекта – специалистов по интеллектуальному наследию викторианской эпохи, так и с точки зрения очередного этапа изучения наследия Карлейля в целом и его «Французской революции» в частности.
Оценивая перспективы использования нового издания, Марк Филп, известный исследователь влияния Французской революции на интеллектуальную жизнь Британии, приходит к неожиданному заключению: оно поднимает «более масштабный вопрос о том, куда движется научное редактирование» (Philp, 2023). Проблема ему видится в том, что максимально подробные комментарии, составляющие до трети каждого тома, делают текст «одновременно читаемым и нечитаемым. Невозможно прочувствовать повествование и проникнуться видением Карлейля, если мы остановимся, чтобы проверить каждую возможность для аннотации» (Philp, 2023: 260). По его словам, использование цифрового формата проблему не решает, поскольку в этом случае предлагается все тот же мир бесконечных ссылок, которые необходимо знать, чтобы оценить основной текст. В итоге рецензент, определяя свое видение «Французской революции», конкретизирует общеизвестное и многими исследователями разделяемое утверждение Дж. Ст. Милля, что Карлейль написал «одновременно подлинную историю и поэзию Французской революции», а перспективы использования откомментированного текста английского историка видит в помещении его на полку в библиотеке классики, откуда его можно доставать для рассмотрения отдельных проблем истории и литературы викторианской эпохи.
Марк Эллисон, специализирующийся на изучении культуры и социализма XIX века и позиционирующий себя как человека левых убеждений, в статье с говорящим названием «Французская революция сегодня, или Вечное возвращение Карлейля», отмечает очевидность резонансов между эпохой шедевра Карлейля и положением дел в англосфере в 2020 г. Он видит их в зияющей пропасти между привилегированными и обездоленными, в бессовестных злоупотреблениях государственной властью и вопиющих провалах базового управления, а также в непредвиденной материализации толп на улице, чьи требования справедливости вдохновляли протесты по всему миру, в том числе и вторжение в Капитолий в январе 2021 г. (Allison, 2022: 203).
Для М. Эллисона непреходящее значение истории Французской революции Карлейля состоит в том, что она является прежде всего историей санкюлотизма. А история санкюлотизма как ниспровергателя «устаревших символов», в том числе и олигархических республик либеральных обществ XXI века, по его мнению, еще не закончена, так как надежды на респектабельный средний класс в борьбе с «такими очевидными шарлатанами, как Борис Джонсон и Дональд Трамп» несостоятельны (Allison, 2022: 215). Для М. Эллисона показалось весьма символичным, что в один год произошло проявление санкюлотизма в виде прорыва в Капитолий и появление нового издания «Французской революции» Карлейля как единственного текста, обладающего необходимым гносеологическим потенциалом для понимания/объяснения этого события современной американской истории.
Активизация интереса к «Французской революции», простимулированная новым изданием ее текста, породила и новые, подчас неожиданные, контексты его интерпретации, вплоть до учета мнения ИИ, созданного ChatGPT по запросу Б.Э. Кинсера2. Тем не менее наиболее полным исследованием истории Карлейля на сегодняшний день считается монография Марка Камминга «Освобожденный эпос: форма и видение Французской революции Карлейля», в которой на основе изучения текста истории и того, что читал Карлейль накануне ее написания, автор аргументированно утверждает, что викторианец переформировывал такую литературную форму, как эпос в соответствии со своими собственными литературными целями, сочетая роман, сатиру, элегию, фарс, трагедию, символ, аллегорию, фантасмагорию (Cumming, 1988). Он также пытался показать, как данная литературная форма сочеталась у Карлейля с необходимостью изложения фактов истории, правда, не выходя при этом за границы поля литературной критики. Переиздание монографии М. Камминга в 2018 г. свидетельствует, что в глазах научного сообщества «Французская революция. История» по-прежнему воспринимается главным образом в контексте европейского литературного процесса XIX века.
Между тем появившееся в лексике некоторых исследователей «Французской революции» понятие «дискурс»1 позволяет увидеть перспективу прочтения истории, написанной английским автором, в новом исследовательском поле, которое возникло под влиянием лингвистического поворота в историографии и сделало возможным перенос интереса исследователей с Карлейля-участника литературного процесса на Карлейля-историка. И здесь речь может идти не только об изучении исторического дискурса английского мыслителя, хотя бы в соответствии с представлениями М. Фуко (через определение процедур исключения и уровней дискурса)2, но и о понимании «Французской революции» в контексте теории историографии «Метаистории» Х. Уайта, определявшего свой проект по исследованию исторических текстов XIX века как «попытку концептуализировать скорее “поэтику” историографии, нежели “философию” истории» (Уайт, 2002: 11).
Как писал П. Берк в статье «Метаистория: до и после» после публикации книги Х. Уайта в 1973 г., изучение того, что в самом общем виде может быть названо нами риторикой истории, стало представлять собой, по сути, продолжающуюся серию откликов, как положительных, так и отрицательных, на работу Уайта, а попытки использовать его анализ распространились не только на других историков, но и на другие дисциплины (Burke, 2013).
Не абсолютизируя значение риторического анализа Уайта для описания всего процесса производства исторических текстов, приходится признать, что нарративизация реальности в великих историях золотого для истории XIX века может быть понята как «поэтический» акт, в ходе которого репрезентация серии событий в конечном итоге наделяется смыслом в соответствии с постоянной манерой использования языка, и что историографический «стиль» историка может быть описан как определенный набор различных стратегий объяснения, в том числе и архетипических способов построения сюжета. Так, по мнению Уайта, четыре главных историка XIX в. – Мишле, Ранке, Токвиль и Бурхардт – демонстрируют свои варианты написания истории, выбрав для построения сюжета типы романа, комедии, трагедии и сатиры соответственно.
Тексты Мишле, в первую очередь его знаменитая «История Французской революции», Уайтом относятся к историографии романтической, достигающей объяснительного эффекта за счет использования метафорического способа описания поля истории, которое романтическими мыслителями понимается как «хаос бытия». Излагая основы романтического понимания истории, что позволяет ему обосновать возможность объяснения посредством метафоры у романтиков, Уайт обращается прежде всего к рассмотрению «философии истории» Карлейля как наиболее яркого представителя романтической мысли, но при этом даже не упоминает его «Французскую революцию» (Уайт, 2002: 174–180).
Представляется, что наряду с другими возможными факторами, определившими такой выбор Уайта, это связано с принципиальной невозможностью соотнести историографический стиль Карлейля с историографическим стилем Мишле не только потому, что английский историк выстраивал свой сюжет не как роман, а как героический эпос, сколько потому, что он это делал сознательно. Так, основное утверждение Уайта состоит в том, что четыре выделенные им главные модуса исторического сознания XIX века базируются на префигуративной (тропологической) стратегии (метафора, синекдоха, метонимия и ирония), посредством которой неявно санкционируются теоретические понятия исторического сочинения. В случае с Карлейлем о бессознательной префигурации говорить не приходится ввиду того, что «Французская революция» стала возможной только как реализация в практике историописания сформировавшейся «философии истории» (которую частично излагал Уайт в своем исследовании!), в том числе касающейся и вопроса о форме изложения истории.
В начале 1830-х гг. выходят в свет три эссе Карлейля: в 1830 г. – «Об истории» (Carlyle, 1873: 219–224), в 1832 г. – «Биография» (Carlyle, 1873: 311–317), «Снова об истории» (Carlyle, 1873: 422– 426), в которых он впервые обращается к специальному рассмотрению «теоретических» проблем истории, излагая, по сути, основы своей «философии истории» (Синельникова, 2008).
Рассуждения об истории Карлейль начинает с констатации того факта, что ее домен «похож на свободный рынок, где все воюющие стороны встречаются и экипируют себя; сентименталист и утилитарист, скептик и теолог в один голос советуют нам: “Изучайте историю, потому что философия учится опытом”» (Carlyle, 1873: 220). Но роль истории не должна сводиться только к роли хранительницы фактов для философии, а занятия историей – к труду ремесленника, занятого поисками этих фактов. История должна иметь своей целью познание целого, так как «только в целом частичное может быть правильно распознано» (Carlyle, 1873: 222). Поэтому развитие исторического познания связано не с деятельностью, хотя и важной, историка-ремесленника, но с деятельностью исто-рика-художника/пророка, а сама история должна быть «исторической философией» (термин Карлейля), направленной на выявление общей линии развития человеческой истории.
Однако, прежде чем историческая философия определит ход развития истории, должен быть «собран и внятно записан» опыт предшествующих поколений, что, по убеждению Карлейля, сделать достаточно сложно, ибо дошедшее до нас письмо с наставлениями фальсифицировано, порвано, состоит из одних лоскутков, так что его трудно читать (Carlyle, 1873: 423). Этому есть ряд причин, в том числе и способность наблюдателя увидеть истинные события, а не только схемы события и теории события, отличающиеся друг от друга, тем более что истинные причины событий всегда молчаливы (Carlyle, 1873: 220–221).
Сложность заключается и в том, что даже способный наблюдатель описывает события последовательно, тогда как они совершаются одновременно. Этот «всегда-живущий, всегда-дви-жущийся хаос бытия», где «простое событие является результатом не одного, но всех других событий, предшествующих или современных», историк должен описать путем «натягивания его простыми линиями в несколько эллов длиной». Обозначенное противоречие между линейностью нарратива и трехмерностью, цельностью действия становится для Карлейля предметом постоянных размышлений, направленных на его преодоление (Carlyle, 2009: 124).
Карлейль, считавший историю как исторический процесс – откровением, а историю как его отражение – пророчеством, признавал значимость политической истории, но был категорически против сведения истории к сенату, полям битв и даже приемным королей, когда «мощный поток мыслей и действия проходил своим удивительным курсом» (Carlyle, 1873: 222). Подлинной историей английский мыслитель полагал только духовную историю, которую он понимал как единство областей человеческой духовной практики, имеющих нравственный характер. Причем это единство философии, религии, искусства, литературы понимается им не как совокупность различных сфер познания человека, но как их тождество. Нерасчлененность гуманитарного знания является для Карлейля необходимым условием, гарантирующим целостное видение истории.
Формой, адекватно выражающей идеал нерасчлененности гуманитарного знания, и, в первую очередь, литературы и истории, может служить, по мнению Карлейля, эпическая поэма. И, действительно, присущее древним эпосам мифологическое сознание характеризуется такой нерасчленен-ностью. К сожалению, продолжает английский мыслитель, подлинная эпическая поэма, подобная «Илиаде», которая вызывает доверие и является реальностью, сейчас уже невозможна: «Мы имеем на месте полностью мертвой для современности эпической поэмы частично живущий современный роман…» (Carlyle, 1873: 313), а ведь именно подлинная реальность есть цель познания.
В признании того, что только через познание реальности возможно познание истины, универсума, коренится причина смены приоритетов в творчестве Карлейля с литературно-критической деятельности на историографическую практику. В письме Дж. Ст. Миллю в июне 1833 г. он пишет, что «великий результат лежит в интенсивном интересе к нарративам», так как они представляют более высокий вид писательства, чем художественные произведения, даже шекспировского толка, в силу их связи с реальностью» (Carlyle, 1972: 402). Летом 1834 г. Карлейль переезжает в Лондон: фонды Британского музея и поддержка Милля позволяют ему начать целенаправленную работу над «Французской революцией». Общий подход Карлейля к осмыслению событий Французской революции выражается в его желании написать эпос о ней: «Это должна быть такая книга – вполне эпическая поэма о революции: апофеоз санкюлотизма!» (Carlyle, 1972: 447).
Выбор санкюлотизма в качестве героя эпической поэмы и символа Французской революции определяется карлейлевским пониманием революции прежде всего как акта разрушения и уничтожения отживших свой век старых «формул», старого порядка, чтобы могли возникнуть новые «формулы», в большей степени соответствующие потребностям нации и, в конечном итоге, глубинной сущности мира – Божественной идее. Из трех сил, участвующих в революции (роялисты и священники как защитники старых «формул», революционеры – учредители новых «формул», санкюлоты – ниспровергатели любых «формул»), только санкюлоты, по мнению Карлейля, видели в революции свое кровное дело.
Второй важный аспект карлейлевского понимания революции связан с ее трактовкой как «трансцендентного явления, превышающего всякие правила, всякий опыт». Очевидно, что среди социальных сил революции именно санкюлоты в наибольшей степени соответствовали трансцендентному характеру революции: «…в массе разных явлений немногое, быть может, на земле заслуживает такого внимания, как именно чернь. Простой народ является непосредственным проблеском природы; он исходит из самой сокровенной ее глубины или находится с нею в неразделенном общении… здесь живет искренность и правда» (Карлейль, 1907: 139).
И, наконец, санкюлотизм для Карлейля стал явлением-символом Французской революции и героем его эпоса еще и потому, что к нему относилась подавляющая часть населения Франции, те 20–25 миллионов человек, которые в голоде и холоде больше всего страдали от «старого порядка». Завершение революции, недолгого взлета санкюлотизма, происходит тогда, когда вызревает сила, несущая новый, истинный порядок, олицетворением которого для Карлейля стала армия, созданная революционным народом естественным путем.
Что касается желания Карлейля написать о санкюлотизме в форме эпоса, то реализовать его в полной мере во «Французской революции» было невозможно по определению. В истории Карлейля нет того главного качества, которое делало героический эпос в глазах самого английского историка образцом истинного исторического сочинения, а именно – бессознательного отражения действительности, что только и является гарантией истинности знания о сущности, смысле исторической реальности. Поэтому, стремясь достичь истинного знания революции, Карлейль пытается воссоздать в своем сочинении такой «наивный» взгляд на мир, что выливается в конечном итоге в бессознательные поиски исторических фактов, подтверждающих его же спекулятивные идеи и его видение санкюлотизма как эпического героя.
Свидетельством истинности отражения реальности в эпосе, как всегда отмечал Карлейль, является целостность, «нелинейность» повествования, которая определяется тем, что перед глазами наблюдателя разворачивается во времени поток событий, но в его сознании в каждый конкретный момент отражается лишь часть исторической реальности; ничем иным, кроме физиологической способности переводить взгляд, эти «снимки» реальности не связаны. Так, во «Французской революции» взгляд историка переходит с одного предмета на другой, каждый из которых описывается как нечто самостоятельное: спальня короля; посылка добровольцев в Америку; усилия Неккера, предпринятые для продолжения дела Тюрго; полет воздушного шара; Совет нотаблей и т. д. (Карлейль, 1907: 1–59).
Ощущение сложности исторической реальности достигается Карлейлем и за счет описания разноуровневых явлений: то исторической личности Мирабо (Дантона, Марата, Робеспьера и других деятелей революции), то заседания Учредительного собрания (Совета нотаблей, Генеральных штатов, Национального собрания, Конвента), то грозной поступи толпы (штурма Бастилии, восстания женщин, выступления марсельцев и т. д.). Постоянно меняется и место действия: улицы Парижа, Законодательное собрание, провинциальный город, квартира Марата, спальня короля, тюремная камера и т. д. Такое описание сцен, не связанных между собой причинно-следственными связями, но выбранных благодаря его воображению, производит искомое впечатление неразрывности исторического полотна, позволяет историку создать по-импрессионистски целостный образ Французской революции, ориентированный на понимание объекта как такового, а не на его объяснение как результата других исторических событий.
Именно воображение есть то главное качество, которым должен обладать историк, чтобы быть способным воссоздать картину реальности, считает Карлейль. Он убежден, что воображение служит для отражения объективно существующего смысла исторической реальности и, по своей сути, может быть только воссоздающим, не имея ничего общего с фантазией: «В любом случае должен быть некий символ, предлагающий себя для поклонения: им одним является воображение, подлинный орган бесконечного в человеке, который выступает в единстве с пониманием как органом конечного» (Carlyle, 1972: 278). Именно поэтому он всегда настойчиво повторял, что историческое сочинение не имеет ничего общего с произведением художественным.
Завершающий этап работы воссоздающего воображения историка связан с проблемой выражения мысленно существующей картины исторической реальности, «образ которой плавает, великий и туманный, в моей голове», в адекватной форме, позволяющей читателю верно воспринять результат работы воображения. При этом историк для Карлейля – это проповедник, стремящийся донести до читателя проблеск Божественной идеи, но никак не заботящийся о комфорте читателя литератор, поэтому для него были недопустимы советы Милля и Стерлинга писать более понятным для читающей публики языком. Объясняя свою позицию, он в свойственной ему метафорической манере вполне определенно заявлял, что его стиль есть «не одежда, но кожа» (Carlyle, 1981: 59–60).
Очевидно, что сформировавшееся в процессе работы над «Французской революцией» понимание Карлейлем воображения как единственного способа постижения реальности историком, видящим в истории символы Божественной идеи, принципиально отличается от того исторического воображения, которое становится предметом структуралистского анализа в «Метаистории» и которое Уайт определяет как особый род мышления «образами и фигуративными типами ассоциаций, свойственный поэтической речи» (Уайт, 2002: 12), пытаясь обнаружить у ведущих историков XIX века.
Представляется, что для традиционной историографии свидетельством в пользу утверждения, что великие исторические нарративы являются результатом работы исторического воображения, скорее будет имевшая место в процессе работы над «Французской революцией» напряженная рефлексия Карлейля о природе познавательной деятельности историка и форме написания истории, чем выявленные Уайтом тропологические основания исторического объяснения. Но в любом случае предпринятая Уайтом попытка выявления метаистории, представленной в нарративах XIX века, как минимум актуализирует интерес к «Французской революции» Т. Карлейля как к одному из самых важных для XIX века описаний одного из самых значимых в истории событий. Другое дело, что «Французская революция. История», являясь результатом работы по-карлейлевски понимаемого исторического воображения и написанная как эпическая поэма/героический эпос, достаточно формально соотносится с проблемой исторического воображения и стратегиями сюжета нарратива в интерпретации Х. Уайта.
Список литературы «Французская революция» Томаса Карлейля в историографическом поле «Метаистории» Х. Уайта
- Карлейль Т. Французская революция. История. СПб., 1907. 615 с.
- Синельникова Г.А. «Историческая философия» Томаса Карлейля // Методологические проблемы исторического познания: сборник научных трудов. Омск, 2008. С. 73-82.
- Уайт X. Метаистория: Историческое воображение в Европе XIX века. Екатеринбург, 2002. 528 с.
- Allison M. The French Revolution Now; or, Carlyle's Eternal Return // Victorian Literature and Culture. 2022. Vol. 50, no. 1. P. 203-223. https://doi.org/10.1017/S1060150321000218.
- Burke P. Metahistory: before and after // Rethinking Hi story. 2013. Vol. 17, no. 4. P. 437-447. https://doi.org/10.1080/13642529.2013.825081.
- Carlyle T. Critical and Miscellaneous Essays. N.Y., 1873. 565 p.
- Carlyle T. The Collected Letters of Thomas and Jane Welsh Carlyle. Vol. 6. October 1831-September 1833. Duke Un -ty Press, 1972. 450 p.
- Carlyle T. The Collected Letters of Thomas and Jane Welsh Carlyle. Vol. 9. July 1836-December 1837. Duke Un-ty Press, 1981. 451 p.
- Carlyle T. Two Note books of Thomas Carlyle from 23d March 1822 to 16th May 1832 [1898]. N.Y., 2009. 342 p.
- Cumming M. A Disimprisoned Epic: Form and Vision in Carlyle's French Revolution. Philadelphia, 1988. 204 p.
- Philp M. Haunting the revolution // Essays in Criticism. 2023. Vol. 73, no. 2. Р. 255-263. https://doi.org/10.1093/es-crit/cgad018.