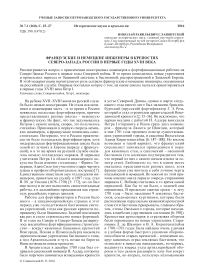Французские и немецкие инженеры в крепостях северо-запада России в первые годы XVIII века
Автор: Славнитский Н.Р.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Исторические науки и археология
Статья в выпуске: 7 (160) т.1, 2016 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается вопрос о привлечении иностранных инженеров к фортификационным работам на Северо-Западе России в первые годы Северной войны. В то время возводились новые укрепления и происходил переход от башенной системы к бастионной, распространенной в Западной Европе. В этой модернизации значительную роль сыграли французские и немецкие инженеры, оказавшиеся на российской службе. Впервые поставлен вопрос о том, на какие школы пытался ориентироваться в первые годы XVIII века Петр I.
Северная война, петр i, инженеры
Короткий адрес: https://sciup.org/14751081
IDR: 14751081 | УДК: 390.1(470.2)
Текст научной статьи Французские и немецкие инженеры в крепостях северо-запада России в первые годы XVIII века
На рубеже XVII–XVIII веков на русской службе было немало иностранцев. Не стала исключением и инженерная часть – в то время в России появилось несколько фортификаторов, причем представлявших разные школы – немецкую и французскую. Не факт, что так задумывалось Петром с самого начала, скорее, это получилось стихийно. Привлекали в первую очередь немецких инженеров, а французские появились самостоятельно. Интересно, что в России практически не было голландских фортификаторов, хотя нидерландская фортификационная школа была одной из лучших в Европе (наряду с французской), и в то же время на русской службе оказалось немало голландских моряков. И первыми учителями Петра I в области инженерного искусства были именно голландцы – Франц Ти-мерман, Адам Сило (он учил юного царя чертить планы и профили оборонительных построек) [7]. Единственным известным нам голландским инженером, принятым на службу в 1697 году, стал В. М. де Геннин (1676–1750) [5: 173], но он был еще молод и не мог выполнять самостоятельные работы, а в дальнейшем прославился как строитель российских горных заводов.
Работы для фортификаторов в России было много – в западноевропейских странах в этот период уже господствовала бастионная система укреплений, тогда как русские крепости по-прежнему были башенными. Задачей иноземцев как раз и стало строительство новых фортеций. В те годы на Севере и Северо-Западе развернулось масштабное фортификационное строительство – вокруг каменных башенных крепостей Новгорода, Пскова и Шлиссельбурга насыпали деревоземляные укрепления бастионного типа, а под Архангельском и чуть позже на берегах Невы возводили новые крепости.
В Архангельск в декабре 1700 года был отправлен саксонский инженер И. Адлер, которому было поручено заниматься возведением крепости в устье Северной Двины, однако в марте следующего года вместо него был назначен бранденбургский (прусский) фортификатор Г. Э. Резе, который и стал строителем архангельской Новодвинской крепости [2: 35–36]. Не исключено, что первая неудача с работой И. Адлера вынудила Петра I отправить в Псков сразу двух инженеров – француза Ламота де Шампии, который в мае 1701 года произвел осмотр существовавших укреплений города, и саксонца Вильгельма Адама Кирштенштейна [6: 187–188]. Но вполне возможен и такой вариант, что французский специалист занимался приведением в порядок каменных стен, а саксонский – насыпкой бастионов (это косвенно подтверждается тем, что первый из них с самого начала взялся за осмотр стен). Любопытно то, что в одном месте оказались представители разных школ, хотя французская уже впитала в себя лучшие черты итальянской и немецкой. Во многом по этой причине именно она (в первую очередь стараниями маршала С. Вобана) считалась в то время самой передовой. Как бы то ни было, с задачей они справились. В предельно сжатые сроки – к лету 1701 года – было насыпано 9 земляных бастионов, соединенных куртинами, которые были расположены параллельно каменной крепостной стене (эти бастионы прикрывали, главным образом, стены Окольного города, которые находились в наиболее удручающем состоянии [6: 190]). Крепостная артиллерия и стрелковая оборона были перенесены на новые укрепления. Стараниями Л. де Шампии и В. А. Кирштенштейна в 1700–1701 годах была найдена очень удачная и удобная форма быстрого усиления обороноспособности старых крепостей – возведение вокруг каменных оград земляных бастионов, что позволяло к невыгоде нападающих, во-первых, выдвинуть вперед узлы артиллерийской обороны и тем самым расширить зону боя вокруг крепости, во-вторых, пользуясь изломанными линиями фронта обороны, более эффективно, чем раньше, вести заградительный огонь в нужных направлениях [4: 473]. Затем этот способ укреплений был развит при восстановительных работах в других крепостях. В частности, точно так же были усилены укрепления Ямбурга весной 1703 года – этим занимался инженер Гольцман, приехавший в Россию из Бранденбурга [7: 32]. Там он, по всей видимости, оставался недолго, ибо в апреле следующего года П. М. Апраксин писал губернатору Ингерманландии А. Д. Меншикову, что «прежний инженер без меня зимою к Москве уехал и где ныне не знаю», и просил прислать туда фортификатора, поскольку многие места «требовали починки»1.
Здесь хотелось бы еще раз обратить внимание на отсутствие в России голландских инженеров. Дело в том, что возведение земляных укреплений – это, в первую очередь, голландский принцип, появившийся в период войны за независимость Нидерландов, когда не было возможности строить каменные долговременные укрепления, и они максимально быстро возводили земляные. Безусловно, Петр I в ходе Великого посольства 1697–1698 годов узнал об этом и два года спустя успешно использовал эти принципы. Выскажем предположение, что во время своего первого визита в Западную Европу царь просто не предполагал (да и не мог предположить), что ему придется очень скоро вплотную думать о фортификационных укреплениях. Идея войны против Швеции, как известно, оформилась уже после возвращения в Россию, а разгром под Нарвой совсем не входил в его планы.
Дальнейшая судьба Л. де Шампии нам пока не известна, а В. А. Кирштенштейн позже занимался строительством Санкт-Петербургской крепости. И рядом с ним на сей раз оказался другой француз – Жозеф Гаспар Ламбер де Герэн. Ламбер появился на российской службе в 1700 году вместе с Л. Н. Аллартом (Галлартом)2, которого саксонский курфюрст и польский король Август II командировал в Россию (по другим данным, приехал в страну в 1701 году). Возможно, он был под Нарвой, но тогда избежал плена. В 1701 году инженер оказался в свите царя, который готовился к поездке в Архангельск и походу к Нотебургу. Он руководил осадными работами и под Нотебургом осенью 1702 года, и под Ниен-шанцем весной 1703-го [3], поэтому неудивительно, что именно ему было поручено заниматься строительством деревоземляной крепости Санкт-Петербург, положившей начало столице Российской империи. В какой-то степени французский инженер-авантюрист оказался в нужное время в нужном месте.
Как они работали с В. А. Кирштенштейном, сказать сложно. С. Д. Степанов полагает, что они оба подготовили проекты укреплений, но проект саксонского инженера не был востребован, так как крепость строилась «с великим поспешением», а фундаментные работы, связанные с возведением южных бастионов, запроектированных Кирштенштейном, сильно вдающихся в Неву, а также строительство сразу двух равелинов потребовали бы значительного времени и денежных вложений, что Петр I не мог себе позволить в обстановке, когда шведский флот находился в Финском заливе [7: 37]. Поэтому укрепления были возведены по проекту, разработанному Ламбером, причем в соответствии с принципами французской фортификационной школы, которая в то время пользовалась наибольшей известностью [7: 55].
В. А. Кирштейнштейн оставался в Санкт-Петербурге и, судя по его донесению А. Д. Меншикову, разрабатывал новые проекты укреплений – фоссебрей и равелинов, запрашивал, «каким образом те равелины фозсабрей и кавалеры делать изволите»3. По всей видимости, в то время Петр I и А. Д. Меншиков задумывались над вопросом возведения более мощной крепости, и при перестройке ее в камне были использованы наработки саксонского инженера, правда, к тому времени В. А. Кирштейнштейна уже не было в живых – он скончался в 1705 году. А в 1706 году покинул российскую службу и Ламбер де Герэн, решивший бежать из страны. Таким образом, из тех инженеров, кто прибыл в Россию в первые годы Северной войны, на службе остался лишь Г. Э. Резе, продолжавший работать в Архангельске.
В то же время на российской службе оказался и первый известный нам голландский инженер – подполковник Марко Гинсон. Он был принят в 1705 году и в следующем году находился в полевой армии4. Кроме того, в 1702 году были наняты десять голландских гидроинженеров [1: 156].
Таким образом, голландских инженеров Петр I в первом десятилетии XVIII века привлекал на российскую службу достаточно активно, однако фортификационные работы им не поручали. И это было осознанной политикой. Выскажем предположение, что это связано с тем, что царь посчитал оптимальным привлечение именно французских и немецких инженеров, которые использовали французские методики. Сначала это получилось во многом случайно, а затем этот опыт был признан успешным. Это в какой-то степени подтверждает и более поздний опыт – в конце царствования Петра I во главе инженерного ведомства находился француз Е. де Кулон, а строительством укреплений (с конца 1720-х годов – руководитель фортификационной конторы) занимался немец Б. Х. Миних, предпочитавший французские способы расположения укреплений.
Французские и немецкие инженеры в крепостях Северо-Запада России в первые годы XVIII века
FRENCH AND GERMAN ENGINEERS IN FORTRESS FORTIFICATIONS OF NORTHWESTERN RUSSIA IN THE FIRST YEARS OF THE XVIII CENTURY
Список литературы Французские и немецкие инженеры в крепостях северо-запада России в первые годы XVIII века
- Ван дер Зваан А. Х. Российские каналы и голландские инженеры-гидравлики//Россия -Нидерланды. Диалог культур в европейском пространстве: Материалы V Международного петровского конгресса. СПб., 2014. С. 155-160.
- Гостев И. М. Архангельская Новодвинская крепость//Труды Государственного музея истории Санкт-Петербурга. СПб., 2007. Вып. 15. С. 33-59.
- Данков М. Ю. Баловень фортуны. О загадочной судьбе Ламбера де Герэна//Петровское время в лицах -2006. Труды Государственного Эрмитажа XXXII. СПб., 2006. С. 113-122.
- Кирпичников А. Н. Крепости бастионного типа в средневековой России//Памятники культуры. Новые открытия. 1978. Л., 1979. С. 471-499.
- Корепанов Н. С., Корепанова С. А. Вклад В. Г. де Геннина в социально-экономическое развитие Урала//Россия -Нидерланды. Диалог культур в европейском пространстве: Материалы V Международного петровского конгресса. СПб., 2014. С. 173-188.
- Макеенко Л. Н. Инженеры Ламот де Шампии и Вильгельм Адам Киршенштейн -во главе строительства фортификационных сооружений Пскова в 1701 году//Культурные инициативы Петра Великого: Материалы II Международного конгресса петровских городов. СПб., 2011. С. 184-191.
- Степанов С. Д. Санкт-Петербургская Петропавловская крепость. История проектирования и строительства. СПб., 2000. 240 с.