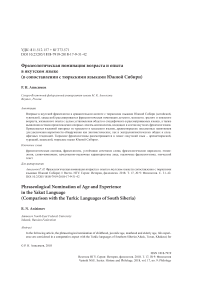Фразеологическая номинация возраста и опыта в якутском языке (в сопоставлении с тюркскими языками Южной Сибири)
Автор: Анисимов Руслан Николаевич
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Языкознание
Статья в выпуске: 9 т.17, 2018 года.
Бесплатный доступ
Впервые в якутской фразеологии в сравнительном аспекте с тюркскими языками Южной Сибири (алтайский, тувинский, хакасский) рассматривается фразеологическая номинация детского, молодого, зрелого и пожилого возраста, жизненного опыта с целью установления общего и специфичного в рассматриваемых языках, а также выявления истоков происхождения опорных лексем-компонентов, входящих в состав якутских фразеологизмов. Привлекается языковой материал из турецкого и казахского языков, древнетюркских письменных памятников для увеличения вероятности обнаружения как лингвистических, так и экстралингвистических общих и специфичных тенденций. Тюркские фразеологизмы рассматриваются в плане «якутский язык - древнетюркский, турецкий, казахский, тюркские языки Южной Сибири».
Фразеологическая единица, фразеологизм, устойчивое сочетание слова, фразеологические параллели, этимология, словo-компонент, качественно-оценочная характеристика лица, оценочные фразеологизмы, эпический текст
Короткий адрес: https://sciup.org/147220022
IDR: 147220022 | УДК: 811.512.157 | DOI: 10.25205/1818-7919-2018-17-9-31-42
Текст научной статьи Фразеологическая номинация возраста и опыта в якутском языке (в сопоставлении с тюркскими языками Южной Сибири)
Anisimov R. N. Phraseological Nomination of Age and Experience in the Yakut Language (Comparison with the Turkic Languages of South Siberia). Vestnik NSU. Series: History and Philology , 2018, vol. 17, no. 9: Philology, p. 31–42. (in Russ.) DOI 10.25205/1818-7919-2018-17-9-31-42
Сравнительное изучение определенных фразеологических групп родственных тюркских языков ведет к установлению исторической языковой общности, которая находит отражение не только в структурной и семантической, но и в материально-культурной близости сопоставляемых объектов исследования. В якутском языке и тюркских языках Южной Сибири фразеологическая группа «номинация возраста и жизненного опыта человека» в рамках фразео-семантического поля «качественно-оценочная характеристика человека» ещё не становилась объектом сравнительного изучения. Вместе с тем изучение данной фразеологической группы может расширить границы определения общего пратюркского языка на уровне фразеологической системы тюркских языков.
У древних тюрков Центральной Азии возраст человека отсчитывался с появлением молодой зелени, что полностью соотносилось с основной экономической деятельностью народа, занимавшегося овцеводством [Базен, 1986. С. 363]. У самых северных тюрков Сибири, скотоводческих и оленных якутов, номинация возраста и опыта человека обладает своеобразными чертами. В соответствии с распространенной в тюркологии гипотезе, якутская ветвь (включающая якутский и долганский языки) откололась от основного ствола тюркских языков уже на рубеже нашей эры, т. е. в те времена, когда северные хунны ушли в Притяньшанье и Южный Алтай. После миграции тюркоязычных предков якутов в районы верхнего и среднего течения р. Лены наступил период изоляции, и якутский язык практически не подвергался общетюркскому воздействию [СИГТЯ, 2002. С. 661]. Поэтому в якутском языке сохранились те древние элементы и компоненты на уровне устойчивой фразеологической системы языка, которые могли быть присущи пратюркскому и древнетюркским языкам. Как известно, в отличие от лексических единиц, фразеологические единицы (далее – ФЕ)
менее подвержены влиянию внешних факторов. Оставаясь неизменными, они сохраняют национальный характер и отражают характерные признаки исторической эпохи, в которой они возникли.
Вместе с тем в качестве наиболее близких якутскому языку в ареально-генетическом отношении рассматриваются алтайский, тувинский и хакасский языки. Исходя из представления, что продуктивным в изучении фразеологической системы языка является ареальный аспект, так как «фразеологизмы как образные единицы вторичного образования значительно легко могут заимствоваться контактирующими языками, чем лексемы прямой номинации, словообразовательные и грамматические элементы и категории» [Добровольский, 1990. С. 20], целью данной статьи является установление общего и специфичного в фразеологической номинации детского, молодого, зрелого и пожилого возраста, жизненного опыта в якутском и тюркских языках Южной Сибири (алтайский, тувинский, хакасский), а также выявление истоков происхождения опорных лексем-компонентов, входящих в состав якутских фразеологизмов.
В якутском языке представлен пласт огузских и кыпчакских компонентов, который не обнаруживается в тюркских языках Южной Сибири, хотя в территориальном отношении они расположены ближе всех к территории распространения якутского языка. Это наводит на мысль о неоднородности лексического состава якутского языка и о наличии древних кыпчакско-якутских, огузо-якутских контактов. Поэтому в статье использованы также лексикографические источники по турецкому языку, относящемуся к огузской группе, и казахскому языку, представляющему кыпчакскую группу языков, так как «чем шире круг привлекаемых языков, тем больше шансов на выявление как лингвистических, так и экстралингвистических тенденций» [Ройзензон, 1967. С. 112].
Выявление истоков происхождения (тюркского, монгольского, тунгусо-маньчжурского) опорных лексем-компонентов, входящих в состав якутских фразеологизмов, необходимо для того, чтобы иметь возможность понять природу возникновения фразеологических параллелей в родственных тюркских языках.
Обнаруживаются следующие случаи общих и специфичных явлений во фразеологической номинации возраста и жизненного опыта человека в рассматриваемых нами родственных тюркских языках северо-восточной группы.
В тюркских языках для характеристики детского возраста широко используется зооморфная лексика. Так, хищные млекопитающие börü ‘волк’, tilkü ‘лиса’ метафоризируются в значении ‘сын’ и ‘дочь’: крх.-уйг. tilkümü toğdu azu börümü ‘лиса родилась или волк?’ в знач. «дочь или сын» [ДТС, 1969. С. 118]. Фразеологическая номинация ‘волк’ в значении ‘сын’ встречается и в якутском языке: бөрөм бөтөһө (букв.: мой волчий удалец) [Нелунов, 2002. С. 139]. Якутское слово бөтөс восходит к др.-тюрк. бедү ‘увеличиваться’ + -с (аффикс результата действия) = *6edYC > *бедYC > *бедес > бетес [Попов, 2003. С. 152]. Словом бетес ‘удалец, смельчак’ обычно называют «подростка или молодого человека, основываясь на особенностях его характера, из основных качеств которых подчеркиваются смелость, бойкость субъекта» [Лиханов, 1994. С. 44].
Также в якутском языке при назывании любимого сына в составе ФЕ используются ор-нитомические компоненты кыырт ‘ястреб’, мохсоҕол ‘сокол’: ыытар кыырдым, тэбэр мох-соҕолум (букв.: пускаемый мой ястреб, бьющий мой сокол) [Кулаковский, 1979. С. 137]. Семантика данного устойчивого сочетания свидетельствует о наличии соколиной охоты у древних якутов. Якутский кыырт ‘ястреб’ восходит к общетюркскому *kа:rt-y- [СИГТЯ, 2006. C. 169]. Этимология орнитонима мохсоҕол ‘сокол’ не выяснена, прямых соответствий в тюркских языках не установлено.
Новорожденного мальчика предки якутов эвфемистически называли хабдьы сэмнэҕэ (букв.: объедки куропатки) [Нелунов, 2002. С. 319]. Якутская лексема хабдьы ‘куропатка’ сравнивается с эвенк. кобев , нен. хонде’э ‘куропатка’ [БТСЯЯ, 2016. C. 160].
Устанавливается параллель в семантике устойчивой номинации младенца в якутском и хакасском языках: якут. кыһыл оҕо (букв.: красный ребенок); хак. падас (букв.: краснотелый) [Габышева, 2009. С. 41]. Якутская лексема оҕо ‘дитя, ребенок’ имеет прямую лексическую параллель с тюрк. чаҕа ‘маленький мальчик, ребенок, дитя’ [Пекарский, 1958. Стб. 1779], также с монг. вкин и с халх. охик ‘дочь, девочка, ребёнок’ [БТСЯЯ, 2010. С. 204]. Вместе с тем в современных тюркских языках наиболее распространенной формой обозначения понятия ‘дитя, ребенок’ являются лексемы *bala и *bebe [СИГТЯ, 2001. С. 307], которые по фоноструктурному признаку не имеют лексической параллели в якутском языке.
В хакасской лингвокультуре новорожденного ребёнка обозначают фразеологизмом час ымай (букв.: слеза-ымай). Слово ымай в хакасском языке обозначает душу (или жизненную силу) грудного ребёнка: «считалось, что вместе с рождением младенца появляется его ымай » [Бутанаев, 1984. С. 93]. Детская жизненная сила ымай у хакасов тесно связана с культом богини Ымай / Умай, с древним культом тюрков, сложившимся, видимо, «у кочевников задолго до того времени, каким он датируется руническими памятниками» [Потапов, 1972. С. 273]. Однако, по предположению Н. А. Алексеева, древнетюркский культ богини Умай / Ымай является поздней трансформацией (VI‒VIII вв.) культа богинь матерей Аи, существовавших у саков Алтая и Средней Азии [Алексеев, 1980. С. 163]. В якутском языке Ымай / Умай имеет одно значение «матка, женская утроба» [Пекарский, 1958. Стб. 3790], оно не получило дальнейшей мифологизации и в значении «божество» в якутском пантеоне богов не обнаруживается.
В якутской лингвокультуре с предметом кыптыый ‘ножницы’ соотносится характеристика новорожденной девочки: кыптыый кырадаһына (букв.: лоскуток-откройка от ножниц) [Нелунов, 2002. С. 273]. В языковой картине мира якутов ножницы являются знаком девочки, «с рождения родители называли так своих детей, прививали при этом род занятия: девочка станет рукодельницей, хозяйкой домашнего очага и заботливой матерью» [Готовцева, 2006. С. 263]. Якутский кыптыый имеет прямую параллель с др.-тюрк. кыпты, кыпту ‘ножницы’ [БТСЯЯ, 2008. С. 287].
В якутском и хакасском языках обнаруживается общая фразеологическая номинация шустрого, непослушного ребёнка, гиперактивность которого, видимо, связана с избытком «жизненной энергии» [Габышева, 2003. С. 28]: як. төбөтүнэн харахтаах (букв.: с глазами на темени) [Кулаковский, 1979. С. 180]; як. оройунан көрбүт (букв.: смотрит через свое темя) [БТСЯЯ, 2010. С. 328]; хак. мичiр хулах (букв.: упрямое ухо) [ХРС, 2006. С. 248]. Из приведенных якутских компонентов, входящих в состав ФЕ, интерес вызывает соматизм орой ‘темя, макушка’, в связи с тем, что данная лексема находит прямую параллель с тем же значением как в монгольских [Пекарский, 1958. Стб. 1868; БТСЯЯ, 2010. С. 329], так и в тюркских языках: орай ~ урай ~ орой . По предположению тюркологов, данная лексема заимствована из монгольских языков [Татаринцев, 2008. С. 324], в то время как соматические компоненты, входящие в состав якутских ФЕ, как ранее нами выявлено, в подавляющем большинстве имеют исконно тюркское происхождение [Анисимов, 2013. С. 18].
В хакасском, тувинском, тофаларском языках обнаруживается эквивалентная параллель при фразеологическом обозначении грудного ребёнка, которая в якутской фразеологии аналогию не находит: хак. палтыр пизик пала // тув. балдыр бээжик // тоф. балтыр бежикуруг, в котором компонент палтыр пизик (букв.: колыбель голенных икр) «происходит якобы от грудно- го возраста ребёнка, когда у него еще не окрепли икры ножек для хождения» [Бутанаев, 1984. С. 93].
В якутском языке при фразеологической номинации молодого и зрелого возраста основным ядрообразующим компонентом выступают различные зоонимы. Так, в якутской лингвокуль-туре с образом жеребёнка ассоциируется молодой и цветущий возраст человека: уол оҕо, ат кулун (букв.: парень-жеребёнок) [Нелунов, 2002. С. 262].
В этнокультурной картине мира якутов энергичного молодого человека, лучшего среди своих сверстников, сравнивают с соболем-одинцом: уол оҕо одьунааһа (букв.: молодец, как соболь одинец) [Нелунов, 2002. С. 262]. Слово одьунаас ‘соболь-одинец’ является заимствованием, восходящим к русскому существительному одинец, проникшему в дореволюционное время из русского языка со значением ‘cоболь самого высшего разбора’. Именно признак ‘лучший, первый’ является основным при характеристике лица: «Этим словом называют человека, который в каком-то деле, ситуации, обстоятельстве показывает себя с лучшей стороны» [Лиханов, 1994. С. 45].
Сравнения с ценной пушниной, соболем удостаивалась и лучшая девушка среди своих сверстниц, о чем свидетельствует ФЕ с этнокультурной маркированностью: кыыс оҕо кылааннааҕа (букв.: красавица, как соболь) [Нелунов, 2002. С. 279].
В тюркских языках широко характеризуется период взросления, возмужания, достижения физической зрелости человека. При этом активность в фразообразовании демонстрируют соматические компоненты эт ~ эът ‘тело’ в якутском, тувинском языках, кан ‘кровь’ в хакасском, хол ~ кол ‘руки’ в якутском, алтайском, хакасском языках, бут ‘ноги’ в алтайском, тувинском языках: як. эт туппут (букв.: тело держать) [Нелунов, 2002. С. 411]; тув. эът туттун (букв.: тело строится) [ТРС, 2008. С. 449]; як. холун этэ хойдубут (букв.: созрела плоть рук) [Нелунов, 2002. С. 359]; алт. колга-бутка турган (букв.: встал на руку-ногу) [Чумакаев, 2005. С. 137]; хак. холы тыығалах (букв.: руки его еще не окрепли); тув. буду эзеӊгиге чет (букв.: нога его стремени достичь).
В якутской фразеологии представлен синонимичный соматический ряд, характеризующий период взросления и возмужания человека, который в тюркских языках Южной Сибири по набору компонентов не находит аналогий.
Так, в состав якутских ФЕ входят слова-компоненты борбуй ‘подколенки’, уҥуох ‘кости’, иҥиир ‘сухожилия’, буут ‘ляжки’, сис ‘поясница’: борбуйа сонуур (букв.: полнеют подколенки) [ТСЯЯ, 2005. С. 388]; борбуйун көтөхпүт (букв.: поднявший подколенки) [Нелунов, 2002. С. 138], уҥуоҕа кытаатта (букв.: окрепли кости) [Нелунов, 2002. С. 258], иҥиирэ кытаап-пыт (букв.: окрепли сухожилия) [Нелунов, 2002. С. 204], буутун этэ буспут (букв.: созрела плоть ляжек) [Нелунов, 2002. С. 147], сиһин этэ сиппит (букв.: созрела плоть поясницы) [БТСЯЯ, 2011. С. 452]. Семантика приведенных фразеологизмов указывает на процесс постепенного физиологического и психического роста человека [Бравина, 2005. С. 53].
Из приведенных якутских соматизмов в семантическом плане интерес вызывают лексемы борбуй ‘подколенки’ и сис ‘поясница’. Так, соматизм борбуй ‘подколенки’ имеет прямую лексическую параллель с каз. борбай, борпай ‘пах, ляжка’ [ТСЯЯ, 2005. С. 387], который можно считать кыпчакским компонентом в якутском лексическом фонде. Соматизм сис в современном якутском языке имеет первичное значение ‘поясница; позвоночник’, вторичное значение ‒ ‘возвышенное место (обычно лесистое) между двумя водоёмами; широкий лесной массив’, который имеет прямую параллель с др.-тюрк. йыш ‘горы, покрытые лесом, чернь’ [Пекарский, 1958.стб.2248], др.-тюрк. йыш ‘нагорье с долинами, удобными для поселения’ [БТСЯЯ, 2011. С. 453]. В целом во многих культурах мира части тела человека отождествляются с природным ландшафтом, видимо, из-за того, что человек начал постигать окружающий мир с познания самого себя. Вместе с тем кыпчакский компонент борбуй ‘подколенки’ и древнетюркский компонент сис ‘поясница’ демонстрируют в якутском языке низкую фразообразовательную активность, в отличие от других перечисленных соматизмов.
Из сопоставляемых родственных языков при фразеологизации периода взросления и возмужания человека специфичную номинацию выдают алтайский и казахский языки. Так, в алтайском языке в составе ФЕ используется соматизм кемирчек ‘хрящ’: кемирчеги кадып кал (букв.: хрящи его затвердеть). В казахской фразеологии используются соматизмы буын ‘сустав’, бұға-на ‘ключица’: буыны беку (букв.: окрепнуть, затвердеть суставам) [КРФС, 1988. С. 55], бұғанасы қату (букв.: окрепнуть ребрами у ключицы) [КРФС, 1988. С. 55].
В молодом возрасте человек оценивается как неопытный, недостаточно окрепший физически и духовно. Данная характеристика в рассматриваемых тюркских языках передается через ассоциативный образ рта / губ, у которого еще молоко / молозиво не высохло / не очистилось: як. уоһа уоһахтаах (букв.: с молозивом на губах) [Нелунов, 2002. С. 265]; тув. аксында суду кеппээн (букв.: во рту его молоко его еще не высохло); алт. оос сÿдi араалах (букв.: рот мо-локо-его еще не очистилось); хак. аас сÿдi араалах (букв.: рот молоко не очистилось) [Борго-якова, 1996. С. 12]. В турецком фразообразовании данная номинация выражается через образ рта с запахом молока, в казахском через образ рта с сычужиной: тур. ağzını süt kokan (букв.: его рот молоком пахнущий) [БТРС, 2006. С. 31]; каз. аузынан мэйеги арылмаған (букв.: сычужина еще во рту) [КРФС, 1988. С. 33].
Оценка молодости и неопытности в тюркских языках Южной Сибири, в отличие от якутского языка, происходит с участием и других соматизмов, таких как арка ~ арға ‘спина’ в алтайском, хакасском языках; мойын ‘шея’, пил ‘поясница’, оорха-сӧӧк ‘позвоночник’ в хакасском языке, баш ‘голова’, балдыр ‘икра (ноги)’ в тувинском языке: алт. аркасыны тыныбаган (букв.: спина стан его не окрепли) [Тюнтешева, 2006. С. 65]; хак. арға-мойын тыыбаан (букв.: спина-шея не затвердела) [Боргоякова, 1996. С. 23]; хак. пилi хатхалах / холы тыығалах (букв.: поясница его еще не затвердела, руки его еще не окрепли) [Тюнтешева, 2006. С. 65]; хак. оорха-сӧӧ-ги тыығалах (букв.: позвоночник не окрепший); тув. бажы катпаан (букв.: голова его еще не затвердела) [Тюнтешева, 2006. С. 43]; тув. балдыры катпаан (букв.: икра (ноги) его еще не затвердела).
В отличие от тюркских языков, в якутском языке молодость и неопытность передаются через фразеологический образ лица с соплей в носу, также через ассоциативный образ человека, у которого сопли в носу еще не высохли: сыыҥын соспут (букв.: сопли распустил); муннун сыыҥа куура илик (букв.: у него сопли в носу еще не обсохли) [БТСЯЯ, 2012. С. 521].
В рассматриваемых тюркских языках фразеологической номинацией пожилого возраста охвачен процесс постепенного ослабления деятельности всего организма человека. В первую очередь, у состарившегося человека седеют волосы, что представлено в следующих тюркских фразеологизмах: як. араҕас баттахтаах (букв.: седовласый), араҕастыйбыт баттахтаах аар тойон аҕам (букв.: с пожелтевшими волосами почтенный мой отец) [Габышева, 2009. С. 55]; хак. ах саар пас (букв.: седая голова); тув. бажы агара берген (букв.: голова его поседела) [ТРС, 2008. С. 35].
Якутское прилагательное араҕас ‘светло-желтый’ (< араҕастый ‘седеть до желтизны’), как и пратюркская основа *saryγ ( ~ sary ), претерпевает метафоризацию значения: ‘желтый’, ‘бледный’ → ‘старый’, ‘умудренный жизнью’ [Габышева, 2009. С. 56].
В тюркском обществе, как и в других социумах, к человеку, дожившему до мудрой старости, люди молодого и среднего возраста всегда относятся с особым почтением. Старейшин в обществе называют: др. тюрк. qarı baş (букв.: старая голова) [ДТС, 1969. С. 426]; як. баста- ахтар (букв.: имеющий голову) [Пекарский, 1958. Стб. 394], тем самым подчеркивается их особый статус, главенствующая роль в семейном и родовом кругу.
В якутской фразеологии фиксируется оценочная характеристика физиологического изменения человека в связи с достижением пожилого возраста, человек начинает худеть, сохнуть от старости: этин сүүйтэрбит (букв.: терять тело) [Нелунов, 2002. С. 408]; у старого человека ослабевает ум, рассудок: этэрбэһин охсуһуннарар (букв.: ударяет торбазами) [Нелунов, 2002. С. 265]; ослабевает кровообращение: хаана кэхтибит (букв.: кровь его пошла вспять) [Пекарский, 1958. Стб. 1006]; выпадают зубы: хорук тииһэ хоойнугар тохтон эрэр (букв.: его белые как сарана зубы начинают осыпаться ему за пазуху) [Пекарский, 1958. Стб. 2701]. Из подобных опорных компонентов ФЕ интерес вызывает этэрбэс ‘всякая верхняя обувь, мужская и женская, зимняя и летняя’, который сравним с тюркским этик в том же значении [Пекарский, 1958. Стб. 315].
В отличие от якутского языка, в рассматриваемых нами тюркских языках фразеологическая номинация старца, почтенного человека происходит с участием соматических лексем saqal ‘борода’, согум ‘мясо’, сӧӧк ‘кости’, көз ‘глаз’: др. тюрк. аq saqal ( er ) (букв.: белая борода) [ДТС, 1969. С. 48]; алт. карган согум (букв.: старое мясо) [Чумакаев, 2005. С. 129]; хак. кирi сӧӧктӧр (букв.: старые кости) [ХРС, 2006. С. 505]; каз. көне көз (букв.: старый глаз) [КРФС, 1988. С. 107].
В фразеологическом фонде якутского языка сохранилась также устойчивая номинация пожилого мудрого всезнающего человека, обладающего талантом красноречивого рассказчика: сээркээн сэһэн (букв.: красноречивый говорун) [БТСЯЯ, 2012. С. 607]. Якутская лексема сэһэн ‘мыслитель, мудрец’ имеет тюрко-монгольские аналогии: тюрк. чэчэн, чечен, шешен ‘красноречивый; сказитель, народный певец; мудрец’, монг. цэцэн ‘мудрый, умный; мудрец’ [БТСЯЯ, 2012. С. 608]. Несомненно, ФЕ сээркээн сэһэн (букв.: красноречивый говорун) в фразеологический оборот взята из якутской мифологии, согласно которой сээркээн сэһэн – всезнающий старик, таежный мудрец, знаток дорог. Как отметил И. В. Пухов: «Образ уникальный, созданный таежным народом. Его изображают совсем маленьким («с наперсток»), высохшим старцем: тело его ушло в мудрость. Но этот высохший старец может оказаться сильнее любого сильнейшего богатыря. Его все боятся и уважают» [Пухов, 2016. С. 15].
В якутском, турецком, казахском языках обнаруживается общая семантика при характеристике прожившего большую часть жизни, болезненного пожилого человека, доживающего свой век: як. үтүгэнэ күөрэйбит (букв.: худое его сплыло) [Нелунов, 2002. С. 303]; як. өҥкөөтүн өҥөйбүт (букв.: смотреть в могильную яму) [Нелунов, 2002. С. 71]; тур. iki ayağı çukurda (букв.: обе ноги в могиле) [БТРС, 2006. С. 79]; тур. gozu topraga bakmak (букв.: смотреть (глазами) в могилу (в землю)) [БТРС, 2006. С. 357]; каз. бiр аяғы жерде, бiр аяғы қөрде (букв.: одной ногой на земле, а другой – в могиле) [КРФС, 1988. С. 56]. Так, в турецком и казахском языках опорными компонентами выступают соматизмы ayak ~ аяк ‘ноги’ и gӧz ‘глаз’, а в якутском языке используются специфичные лексемы вторичного значения үтүгэн ‘худое’ и өҥкөөт ‘могильная яма’. Первичное значение якутского слова үтүгэн ‘Нижний мир, где обитают злые духи, преисподняя’, которое сравнивается с др.-тюрк., тюрк. Otuken ‘место обитания тюрков в северной Монголии’ [БТСЯЯ, 2015. С. 563], а этимология якутского слова еккеет ‘могильная яма’ еще не установлена.
В якутской фразеологии обнаруживается специфичная фразеологическая номинация пожилого умирающего человека, которая хранит в себе мифологические представления наивной картины мира этноязыкового коллектива: күлүгэ хараарбыт (букв.: тень его почернела) [Григорьев, 1947. С. 48], в основании которой лежит представление о том, что, «вероятно, к тени умирающего присоединялась тень злого духа, проникшего в его тело, что предполагало изменение состояния и качества человека» [Бравина, 2005. С. 44].
Человека, находящегося при смерти, якуты номинируют устойчивым сочетанием тыы-на кылгаабыт (букв.: у него укоротилось дыхание) [ЯРС, 1988. С. 56], в котором дыхание человека «понималось как наиболее явный и важный признак жизненного процесса, которое мыслилось подобно нити, связующей его с истоком жизненной энергии, сосредоточием которой представлялись светлые божества айыы» [Бравина, 2005. С. 156].
Также о человеке пожилого возраста обычно говорили күнэ арҕаалаабыт (букв.: солнце (его) склонилось к западу) [Бравина, 2005. С. 205]. В ассоциативно-образном основании ФЕ лежит идея о том, что источник жизни, света – солнце, постепенно закатываясь на запад, интуитивно воспринимается как конец, окончание цикла жизни человека. Согласно религиозным воззрениям якутов, в западной стороне света находится загробный Нижний мир, куда отправляются души умерших [Алексеев, 2005. С. 121]. Якутская лексема арҕаа сравнивается с тюрк. арка ‘спина’.
В тюркском мировоззрении qış ‘зима, зимний период года’ ассоциируется с порой старости и увядания [ДТС, 1969. С. 448], что отражено в устойчивом выражении qatıγ bardı andın başı boltı qış ‘у того ушла крепость, и голова его стала зимою (т. е. поседела)’ [ДТС, 1969. С. 433]. Семантически близкая номинация ‘доживать до глубокой старости’ наблюдается и в якутском языке: үгүс ардаҕы, хаары үрдүгэр түһэрбит кырдьаҕас (букв.: старец, растаявший на плечах обильный дождь и снег) [БТСЯЯ, 2014. С. 307].
Как известно, жизненный опыт приходит к человеку не с годами, а определяется обилием прожитых и глубиной пережитых ситуаций. В тюркском фразообразовании при номинации человека, претерпевшего жизненные невзгоды, опытного, матерого, участвуют различные соматические компоненты:
-
- баш ~ пас ~ baș ‘голова’ в тувинском, хакасском, турецком языках: тув. сѳѳк баштыг – букв. с костлявой головой [ТРС, 2008.С.98]; хак. хара пазы хатхан – букв. черная голова его затвердела; тур. bașı tașı deǧdi – букв. его голова задела камень [БТРС, 2006. С.99].
-
- кулгаах ‘уши’, харах~көз ‘глаза’ в якутском и казахском языках: як. кулгааҕа-хараҕа кэҥээ-бит киһи – букв. человек, у которого расширенные уши-глаза [Кулаковский, 1979. С.137]; каз. көзi қанық – кто-либо сведущ, опытен в чем-л. [КРФС, 1988. С.103].
-
- тic ‘ зубы’ в хакасском и казахском языках: хак. хасха тiзi сарғалған – букв. белые зубы его пожелтели; каз. тic қаққан – букв. выбивший зуб [КРФС, 1988. С.184].
-
- el ‘руки’ и аğız ‘рот’ в турецком языке: eli yordamlı – букв. его рука опытная [БТРС, 2006.С.267], ağzı yanık – букв. его рот обожженный [БТРС, 2006.С.31].
-
- быар ‘печень’, дьүлэй (дьулай) ‘темя’, мурун ‘нос’ в якутском языке: быара хаҥаабыт, дьүлэйэ (дьулайа) бүппүт киһи – букв. человек с заросшей печенью и теменем [Пекарский, 1958. Стб. 3310]; мунна тыллыбыт киһи – букв. человек с поротыми ноздрями [БТСЯЯ, 2012. С.364]. Якутский соматизм дьулай параллелен п.-монг. дьулай в том же значении [ТСЯЯ, 2006. С.437].
В якутской фразеологии оценка опытного, бывалого человека устанавливается с участием компонентов, не встречающихся в составе ФЕ рассматриваемых тюркских языков. Это сравнение с животными ыт ‘собака’ и бөрө ‘волк’ – кырдьаҕас ыт (бөрө) – букв. старый пёс (волк) [БТСЯЯ, 2008. С. 326]. Организация ФЕ с помощью слов-компонентов материальной и традиционной культуры якутов хаарбах ‘большой железный котёл’, муҥха ‘невод’: хаар-бахха хаарыллыбыт киһи – букв. человек, сварившийся в котле; [Кулаковский, 1979.С.195]; муҥхатын хараҕа кэҥээбит киһи – букв. человек, у которого расширена чека невода [Кулаков-ский, 1979. С. 149], также и с помощью компонента названия древесного растения се- мейства ивовых талах ‘ива’: иэмэх талахтыы эриллибит – закалился, стал выносливым, готовым к трудностям жизни, букв. закалился как легкогнущаяся ива [БТСЯЯ, 2013. С. 170]. Все используемые в составе ФЕ компоненты – тюркского происхождения, кроме лексемы муҥха ‘большая рыболовная сеть, невод для коллективного рыболовства’, которая имеет прямую параллель с эвенкийским мунгка ‘невод’ [БТСЯЯ, 2009. С. 354].
Таким образом, рассмотренный фразеологический материал якутского и тюркских языков Южной Сибири (алтайского, хакасского, тувинского), казахского и турецкого языков проявляет следующие общие моменты.
В фразеологической номинации детского возраста выявляются якутско-хакасские фразеологические параллели в оценке младенца и в характеристике шустрого, непослушного ребёнка. Устанавливаются общие корни в устойчивом назывании родного сына с использованием лексемы компонента börü / бөрө в древнетюркском и якутском языках.
В фразеологической номинации периода взросления, возмужания, достижения зрелости человека выявляются якутско-алтайско-хакасские, якутско-тувинские фразеологические параллели с участием соматических компонентов эт ~ эът ‘тело’, хол ~ кол ‘руки’. Почти во всех рассматриваемых языках обнаруживаются схожие ассоциативные образы рта / губ, у которого молоко / молозиво не высохло / не очистилось, при характеристике молодого человека, неопытного, недостаточно окрепшего в физическом и духовном плане.
В фразеологической номинации пожилого возраста выявляется общая семантика в якутском, тувинском, хакасском языках, основанная на фразеологическом образе седеющих волос/ головы. В якутском, турецком и казахском языках обнаруживается общая семантика в характеристике болезненного, старого человека, отживающего свой век, однако фразеологизация происходит с набором отдельных опорных компонентов. В древнетюркском и якутском языках старейшин номинируют с помощью соматизма бас ~ baș , а пожилой возраст человека ассоциируется с зимним периодом года. В фразеологической номинации жизненного опыта обнаруживается якутско-казахская параллель с участием соматизма харах~көз ‘глаза’.
Не имеющие аналогии в якутском языке фразеологические параллели в тюркских языках Южной Сибири, турецком и казахском языках, свидетельствует о том, что данные тюркские фразеологизмы возникли после отделения якутской ветви от основного пратюркского ядра тюркских языков.
А национально-специфические фразеологизмы якутского языка, не имеющие параллелей в родственных тюркских языках, подтверждают тезис о том, что формирование этих фразеологизмов протекало в процессе его развития в условиях неконтакта с последними.
В целом входящие в состав якутских фразеологизмов опорные слова-компоненты в подавляющем большинстве имеют тюркское происхождение, а наличие определенного количества монголизмов и параллелей в тунгусо-манчьжурских языках свидетельствует о том, что данные лексемы в якутском языке возникли вследствие взаимных контактов и взаимодействия.
Список литературы Фразеологическая номинация возраста и опыта в якутском языке (в сопоставлении с тюркскими языками Южной Сибири)
- Алексеев Н. А. Этнография и фольклор народов Сибири. Новосибирск: Наука, 2008, 494 с.
- Анисимов Р. Н. Фразеологические параллели якутского и тюрских языков Южной Сибири (на примере соматических фразеологизмов качественно-оценочной характеристики человека) // Түркология. Туркестан, 2013, № 1, p. 11-18.
- Большой турецко-русский словарь / сост. Баскаков А. Н. и др. ٣-е изд. М.: Живой язык, 2006, 960 p.
- Большой толковый словарь якутского языка: В 15 т. / Под ред. П. А. Слепцова. Новосибирск: Наука, 2016.
- Базен Л. Концепция возраста у древних тюркских народов (Пер. с фр. Д. Д. и Е. А. Васильевых) // Зарубежная тюркология. Вып. I. М.: Наука, 1986, с. 361-379.
- Боргоякова Т. Г. Краткий хакасско-русский фразеологический словарь. Абакан: Изд-во ХГУ им. Н. Ф. Катанова, 1996, 144 с.
- Бравина Р. И. Концепция жизни и смерти в культуре этноса: На материале традиций саха. Новосибирск: Наука, 2005, 307 с.
- Бутанаев В. Я. Культ богини Умай у хакасов // Этнография народов Сибири. Новосибирск: Наука, 1984, с. 93-105.
- Бутанаев В. Я. Саяно-алтайская языковая общность // Материалы Международной научной конференции «Этнокультурные взаимодействия в Евразии: пространственные и исторические конфигурации». Барнаул: Изд-во Алт. гос. ун-та, 2012. С. 32-46.
- Габышева Л. Л. Слово в контексте мифопоэтической картины мира (на материале языка и культуры якутов. Чтения по истории и теории культуры. Вып. 38. М.: РГГУ, 2003, 192 p.
- Габышева Л. Л. Фольклорный текст: семиотические механизмы устной памяти. Новосибирск: Наука, 2009, 143 с.
- Готовцева Л. М., Андреева А. В. Лингвокультурологический анализ ФЕ, обозначающих понятие возраст человека (на материале немецкого и якутского языков) // Материалы Международной научной конференции «Россия - Германия: историко-культурные контакты». Якутск, 2006. С. 258-270.
- Добровольский Д. О., Малыгин В. Т., Коканина Л. Б. Сопоставительная фразеология: (на материале германских языков): курс лекций. - Владимир. гос. пед. ин-т им. П. И. Лебедева-Полянского. Владимир: ВГПИ, 1990, 79 p.
- Древнетюркский словарь / Под ред. В. М. Наделяева, Д. М. Насилова, Э. Р. Тенишева, А. М. Щербака. Л.: Наука, 1969. 676 с.
- Казахско-русский фразеологический словарь / Сост.: К. Х. Кожахметова, Р. Е. Жайсакова, К. Х. Кожахметова. Алма-Ата: Мектеп, 1988. 224 с.
- Кулаковский А. Е. Научные труды. [Подготовили к печати: Н. В. Емельянов, П. А. Слепцов]. Якутск: Кн. изд-во, 1979, 484 с.
- Лиханов В. И. Эмоционально-оценочные и экспрессивные слова в якутском языке. Новосибирск: ВО «Наука». Сиб. изд. фирма, 1994. 130 с.
- Нелунов А. Г. Якутско-русский фразеологический словарь / Сост. А. Г. Нелунов. Новосибирск, 2002, т. 1. 287 с.; т. 2, 420 с.
- Пекарский Э. К. Словарь якутского языка. Л.: Изд-во Академии наук СССР, 1958, т. I, 1280 с.; 1959, т. II, 2508 с.; 1959, т. III, 3858 с.
- Потапов Л. П. Умай - божество древних тюрков в свете этнографических данных // Тюркологический сборник. М.: Наука, 1973, с. 265-286.
- Пухов И. В. Олонхо - древний эпос якутов. ٢-е изд., стер. Якутск: Издательский дом СВФУ, 2016, 48 с.
- Ройзензон Л. И., Ройзензон С. И. Некоторые соображения о сравнительном изучении фразеологии (на материале устойчивых компаративных оборотов восточных языков) // Вопросы фразеологии и грамматического строя языков. Самаркандский государственный университет А. Навои. Ташкент, 1967, с. 110-114.
- Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Лексика: ٢-е изд., доп. М.: Наука, 2001, 822 с.
- Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Региональные конструкции / Отв. ред. Э. Р. Тенишев. М.: Наука, 2002, 767 с.
- Сравнительно-историческая грамматика тюркских языков. Пратюркский язык-основа. Картина мира пратюркского этноса по данным языка / Отв. ред. Э. Р. Тенишев, А. В. Дыбо. М.: Наука, 2006, 908 с.
- Тувинско-русский словарь / Сост. Э. Р. Тенишев. М: Самиздат, 2008, 338 p.
- Толковый словарь якутского языка / Под ред. П. А. Слепцова. Новосибирск: Наука, 2006.
- Чумакаев А. Э. Алтайско-русский фразеологический словарь. Горно-Алтайск: Институт алтаистики им. С. С. Суразакова, 2005, 312 с.
- Хакасско-русский словарь / Под ред. Субраковой О. В. Новосибирск: Наука, 2006, 1115 с.
- Якутско-русский словарь. М.: Сов. энцикл. 1972. 605 с.