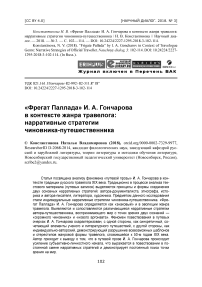"Фрегат Паллада" И. А. Гончарова в контексте жанра травелога: нарративные стратегии чиновника-путешественника
Автор: Константинова Наталья Владимировна
Журнал: Научный диалог @nauka-dialog
Рубрика: Литературоведение. Журналистика
Статья в выпуске: 3 (75), 2018 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена анализу феномена «путевой прозы» И. А. Гончарова в контексте традиции русского травелога XIX века. Традиционно в процессе анализа текстового материала (путевых записок) выделяются принципы и формы соединения двух основных нарративных стратегий: автора-документалиста, этнографа, историка и автора-писателя, литератора, художника. Предметом данного исследования стали индивидуальные нарративные стратегии чиновника-путешественника. «Фрегат Паллада» И. А. Гончарова определяется как «знаковый» и в эволюции жанра травелога. Выявляются и сопоставляются различающиеся нарративные стратегии автора-путешественника, воспринимающего мир с точки зрения двух сознаний - «скромного чиновника» и «нового аргонавта». Феномен повествования в путевых очерках И. А. Гончарова охарактеризован, с одной стороны, как синкретичный, сочетающий элементы ученого и литературного путешествий, с другой стороны, как индивидуально-авторский, демонстрирующий разрушение всевозможных шаблонов и стереотипов жанровой формы травелога, сложившейся к 50-м годам XIX века. Автор приходит к выводу о том, что в путевой прозе И. А. Гончарова происходит усиление субъективно-личностного начала, что выражается в повествовании в постоянной смене нарративных стратегий и демонстрирует постоянный поиск точки зрения на мир.
Травелог, нарративная стратегия, чиновник-путешественник, феномен повествования
Короткий адрес: https://sciup.org/14956947
IDR: 14956947 | УДК: 821.161.1Гончаров+82-992+82-311.8“18” | DOI: 10.24224/2227-1295-2018-3-102-114
Текст научной статьи "Фрегат Паллада" И. А. Гончарова в контексте жанра травелога: нарративные стратегии чиновника-путешественника
1. Актуальные научные направления в изучении жанра травелога: история вопроса
Жанр травелога в современном литературоведении становится все более привлекательным объектом исследования. Такой интерес объясняется тем, что путешествие является не только одним из ярких атрибутов современной культуры, но и модной темой культурологии и антропологии. Ученые, как правило, подвергают анализу цели путешествия, исторический и культурный контекст, дискурс травелога, сюжеты и мотивы путевых записок [Материалы …, 2013; Феноменология …, 2015; Русский травелог …, 2015]. При этом особое внимание уделяется традиционно изучению специфики «литературных травелогов». Так, в диссертационных работах, посвященных вопросу изучения литературных путешествий, в качестве предмета исследования представлена эволюция жанровой формы и стиля, специфика жанра путевых записок в русской литературе определенного периода (в основном XVIII века, первой трети или 1 половины XIX века) [Дыдыкина, 1998; Иванова, 2010]. Феномен же авторства в таких произведениях комментируется крайне редко, только в контексте изучения жанровых особенностей. Так, О. А. Дыдыкина, исследуя эволюцию стиля русских литературных путешествий от Карамзина до Гончарова, говорит о жанре путешествия как об «односубъектном повествовании, организующим центром которого является путешественник — одновременно и участник событий, то есть литературный герой, и писатель, облекающий дорожный материал в литературную форму» [Дыдыкина, 1998, с. 16]. Ориентируясь на произведения XIX века, Н. В. Иванова в работе «Жанр путевых записок в русской литературе первой трети XIX века» [Иванова, 2010] указывает, что в этот период происходит усиление фигуры автора в рамках сюжетной структуры путевых записок. Она трансформируется и обретает дуалистическую сущность: автор-повествователь и путешественник.
Подобная раздвоенность сознания пишущего субъекта, постоянное самоопределение между позицией автора и путешественника, безусловно, отражается на специфике повествования в путевых записках. В связи с этим В. М. Гуминский отмечает: «…“путешествия”, оставаясь фактом литературы, все время стремятся покинуть литературу как особую форму человеческой деятельности, обособленную от реальной жизни» [Гуминский, 1987, с. 141]. Однако следует указать, что наиболее отчетливо эта тенденция проявляется именно в травелогах начала XIX века. Этот период даже характеризуется в культуре как «эпоха путешествий», что подтверждается существенным увеличением количества реальных путешествий и путевых записок. На особый повествовательный феномен русских травелогов этого времени обращает внимание, в частности, историк П. С. Куприянов, выделяя «парадоксы литературности»: «Между “путешествием” и путешествием, между практикой и повествованием, между литературой и жизнью, как между двумя электрическими полюсами, возникало “напряжение”, формировалось особое силовое поле — поле литературности, и в этом поле неизбежно оказывалось всякое путешествие начала XIX века» [Куприянов, 2004, с. 59].
Конечно, следует указать, что авторы травелогов в этот период даже невольно испытывали на себе влияние мощной литературной традиции, порожденной произведением Н. М. Карамзина. Как литературный жанр, «путешествие» конца XVIII — начала XIX века обладало целым рядом устойчивых элементов. Так, например, Е. С. Ивашина выделяет наиболее типичные компоненты: «Устойчивые мотивы были свойственны Предисловию, “Предуведомлению к читателю”; присущий путешествию характер Посвящения, как и само наличие Предисловия и Посвящения, признавался обязательным. Литературное “путешествие” отличала заметно утрированная метафоризация и стиля, и фабулы. Сочетание стихов и прозы, особый способ оформления (как правило, в виде писем), обильное цитирование, а также ряд постоянных сюжетных мотивов — все это постепенно становилось “каноном” литературного “путешествия”» [Ивашина, 1979, с. 9]. К наиболее часто повторяющимся характеристикам исследователи относят также указание на любительский характер записок, преподнесение их как «безделок», имитация нелитературности, обращение к друзьям, стремление убедить читателя в спонтанной фиксации увиденного.
Однако, несмотря на наличие подобных шаблонов и «литературных ориентиров», автор-путешественник в своем индивидуальном «слове о путешествии», как правило, ставит перед собой множество вопросов: описывать только те события, в которых непосредственно участвовал либо очевидцем которых был? Каким образом необходимо фиксировать события в записках? Каким слогом необходимо описывать увиденное? Какова цель фиксации тех или иных событий, впечатлений, характеристик? Какова логика повествования?
Таким образом, специфика нарративных стратегий автора-путешественника является, несомненно, актуальным направлением в исследовании травелога.
2. Феномен «путевой прозы» И. А. Гончарова
Данная статья посвящена изучению феномена «путевой прозы» И. А. Гончарова в контексте традиции русского травелога XIX века. Этот период по праву считают этапом формирования и расцвета жанра траве-лога, становления фигуры автора-путешественника в структуре повествования. Традиционно в процессе анализа текстового материала (путевых записок) выделяются принципы и формы соединения двух основных нарративных стратегий: автора-документалиста, этнографа, историка и автора-писателя, литератора, художника. Предметом данного исследования становятся индивидуальные нарративные стратегии чиновника-путешественника.
Исследователи, как правило, характеризовали «Фрегат Палладу» с точки зрения специфики литературной деятельности И. А. Гончарова, выделяя сквозные темы и проблемы, общие черты поэтики и образной системы его произведений. Однако очевидно, что данный текст автора становится «знаковым» и в эволюции жанра травелога. Так, например, в предисловии И. А. Гончаров детально анализирует теоретический материал о путешествиях, выделяет жанровые особенности текста, указывает основные критерии отбора «путевого материала», акцентируя внимание на существенной оппозиции свой мир / чужой мир в сознании автора-путешественника: «Я ведь уже сказал вам, что искомый результат путешествия — это параллель между чужим и своим. Мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Об-ломовки на ногах» [Гончаров, 1976, с. 11]. При этом предметом рефлексии писателя становится и нарративная стратегия автора-путешественника, так как он ставит перед собой важные вопросы, связанные не только с тем, о чем писать, но и с тем, как писать, будучи путешественником: «Нет науки о путешествиях: авторитеты, начиная от Аристотеля до Ломоносова включительно, молчат; путешествия не попали под ферулу риторики, и писатель свободен пробираться в недра гор, или опускаться в глубину океанов, с ученою пытливостью, или, пожалуй, на крыльях вдохновения скользить по ним быстро и ловить мимоходом на бумагу их образы; описывать страны и народы исторически, статистически или только посмотреть, каковы трактиры, — словом, никому не отведено столько простора и никому от этого так не тесно писать, как путешественнику» [Гончаров, 1976, с. 14]; или еще пример подобного рассуждения: «Экспедиция в Японию — не иголка: ее не спрячешь, не потеряешь. Трудно теперь съездить в Италию, без ведома публики, тому, кто раз брался за перо. А тут предстоит объехать весь мир и рассказать об этом так, чтоб слушали рассказ без ску- ки, без нетерпения. Но как и что рассказывать и описывать?» [Гончаров, 1976, с. 14]. Безусловно, такая позиция нарратора обнаруживает феномен повествования в рамках эволюции жанра травелога: переход от стратегии автора-документалиста к стратегии автора-литератора. Но, с нашей точки зрения, в записках И. А. Гончарова представлено более сложное взаимодействие различных точек зрения путешественника на предмет описания.
При этом следует указать, что «путевая проза» И. А. Гончарова демонстрирует еще один интересный феномен: в путевых записках обнаруживается двойственность позиции автора-путешественника — одновременно и литератора, и чиновника. Недаром исследователи читали эту книгу как дневник душевной жизни Гончарова за целых два года, притом проведенных при наименее будничной обстановке. Автор «дневника» пытается поставить перед собой иную цель: «заменить робость чиновника и апатию русского литератора энергией морехода, изнеженность горожанина — загрубелостью матроса» [Гончаров, 1976, с. 10]. Но в то же время в структуре повествования его записок постоянно проявляется другая нарративная стратегия, которая обнаруживает сознание структурированное, шаблонное, ориентированное на образцы. С точки зрения этого сознания писатель часто и пытается оценить свои записки: «Из этого, т. е. из мимолетных впечатлений и наблюдений, конечно, не могло выйти ни какого-нибудь специального ученого труда (на что у автора и претензий быть не могло), ни даже сколько-нибудь систематического описания путешествия со строго-определенным содержанием. Вышло то, что мог автор: летучие наблюдения и заметки, сцены, пейзажи — словом, очерки» [Гончаров, 1976, с. 25]. С этим также связаны бесконечные комментарии автора в письмах друзьям по поводу несовершенства записок: «Пробовал я заниматься, и к удивлению моему, явилась некоторая охота писать, так что я набил целый портфель путевыми записками. Мыс Доброй Надежды, Сингапур, Бонин-Сима, Шанхай, Япония (две части), Ликейские острова, все это записано у меня и иное в таком порядке, что хоть печатать сейчас; но эти труды спасли меня только на время. Вдруг показались они мне не стоющими печати, потому что нет в них фактов, а одни только впечатления и наблюдения, и то вялые и неверные, картины бледные и однообразные — и я бросил писать» [Гончаров, 1976, с. 17].
Таким образом, анализ феномена нарративных стратегий чиновника-путешественника в контексте эволюции жанра травелога позволяет охарактеризовать синкретизм повествовательной структуры, соединение разных (порой, противоположных) точек зрения на одно и то же явление «чужого» мира, актуализировать двойственность авторского сознания (чи- новника и писателя), описать специфику поэтики путевых очерков, сочетающих элементы документальной и художественной литературы.
3. Специфика нарратива «путевой прозы» И. А. Гончарова
При определении специфики нарратива «путевой прозы» современные исследователи наиболее полной и разносторонней правомерно считают позицию В. М. Гуминского. Среди жанрообразующих аспектов формы и содержания путешествия исследователь отмечает «сложное взаимодействие документальных, художественных и фольклорных форм, объединенных образом путешествующего героя (рассказчика), противопоставление “своего”. “чужому”» [Гуминский, 1987, с. 43]. По мнению исследовательницы О. А. Дыдыкиной, в «догончаровской» «путевой прозе» собственно повествовательные и описательные линии развиваются изолированно, а рассказ о пространственных перемещениях героя сохраняет документально-очерковый характер, рассказ о дорожном быте допускает беллетристический элемент. Н. В. Иванова, характеризуя специфику литературного начала в путевых записках, объясняет это явление как следствие мировоззренческой позиции автора: «Сравнительно-сопоставительный метод позволил выявить в путевых записках единой тематической принадлежности как идентичные описательные характеристики, так и совершенно различные, возникшие в результате индивидуального авторского переосмысления путевых впечатлений» [Иванова, 2010, с. 86]. Такой подход позволяет в какой-то степени переосмыслить роль авторского начала в «путевой прозе», так как чаще всего в исследовательских работах акцентируется внимание на жанровых шаблонах, которые диктовали авторам определенные содержательные и стилистические «рамки».
В лингвистическом исследовании Ю. В. Юркиной обращается внимание на то, что И. А. Гончаров синтезирует в своей книге о путешествии сразу два типа травелога того времени: литературное путешествие и учебное путешествие. Попытка изучить этот «сплав» разнородных элементов травелога приводит исследователя к следующему важному выводу: «Эта тенденция позволяет объединить во ФП такие разновидности очерков, как публицистические, раскрывающие концептуальный подход автора к анализу увиденного (“Русские миссионеры”); очерки-пейзажи, их можно назвать лирико-философскими (”Море и небо”); очерки этнографические и историко-географические, ориентированные на научное изложение (”Капская колония”); очерки-портреты (”Мистер Бен”); путевые очерки (”Верховая езда”)» [Юркина, 2009, с. 18]. При этом собственно литературное путешествие определяется ученым как синкретичный жанр, позволя- ющий автору продемонстрировать различные принципы изображения действительности.
С точки зрения организации повествования записки Гончарова-путешественника уникальны также тем, что читатель может наблюдать очевидную разницу в авторском отношении к написанному еще и с точки зрения временной дистанции. Поскольку после того, как печатаются очерки непосредственно по возвращении из путешествия, И. А. Гончаров в 1874 году публикует очерк «Из воспоминаний и рассказов о морском плавании» («Через двадцать лет»), читатель может сравнить две точки зрения автора-путешественника: внутри события путешествия и извне, оценить отстраненную рефлексию по поводу когда-то сочиненного. Следует указать, что в предисловии к новому очерку даже появляется особая форма такого отстранения — автор говорит о себе в 3 лице: «Пересматривая ныне вновь этот дневник своих воспоминаний, автор, чувствует сам, и охотно винится в том, что он часто говорит о себе, являясь везде, так сказать, неотлучным спутником читателя <…> Утверждают, что присутствие живой личности вносит много жизни в описания путешествий: может быть, это правда, но автор, в настоящем случае, не может присвоить себе ни этой цели, ни этой заслуги. Он, без намерения и также по необходимости, вводит себя в описания, и избежать этого для него было трудно. Эпистолярная форма была принята им не как наиболее удобная для путевых очерков: письма действительно писались и посылались с разных пунктов к тем или иным друзьям, как это было условлено между ними и им. А друзья интересовались не только путешествием, но и судьбою самого путешественника и его положением в новом быту. Вот причина его неотлучного присутствия в описаниях» [Гончаров, 1976, с. 555].
Благодаря такому сопоставительному методу можно обнаружить в повествовании И. А. Гончарова не только эволюцию рефлексивных стратегий автора, но очевидную смену нарративных конструкций, точек зрения автора-путешественника на описание одного и того же явления.
4. Двойственность позиции нарратора в «путевой прозе» И. А. Гончарова. Функция смены точек зрения.
В самом начале повествования о путешествии на фрегате в тексте очевидно акцентируется внимание на двойственности позиции нарратора, сочетании разных точек зрения на мир:
«Жизнь моя как-то раздвоилась, или как будто мне дали вдруг две жизни, отвели квартиру в двух мирах. В одном я — скромный чиновник, в форменном фраке, робеющий перед начальническим взглядом, боящийся простуды, заключенный в четырех стенах, с несколькими десятками похожих друг на друга лиц, вицмундиров. В другом я — новый аргонавт, в соломенной шляпе, в белой льняной куртке, может быть с табачной жвачкой во рту, стремящийся по безднам за золотым руном в недоступную Колхиду, меняющий ежемесячно климаты, небеса, моря, государства. Там я редактор докладов, отношений и предписаний; здесь — певец, хотя ex officio (по обязанности), похода. Как пережить эту другую жизнь, сделаться гражданином другого мира?» [Гончаров, 1976, с. 12]. В этом размышлении и представлен выбор нарративной позиции автора травелога: как писать? С какой точки зрения? От чьего лица?
При этом в Дополнении, написанном через 20 лет, а именно в заключительной главе, напечатанной в литературном сборнике «Складчина» в 1874 году, автор четко указывает: «Да я и не путешествовал, а плавал по “казенной надобности”. Я был “командирован для исправления должности секретаря при адмирале, во время экспедиции к нашим американским владениям”: так записано было у меня в формулярном списке. Следовательно, у меня и не было никакого права на хочу или не хочу оставаться или воротиться» [Гончаров, 1976, с. 556].
Однако в первых главах путевых очерков И. А. Гончаров описывает скорее процесс духовного перерождения автора, который смог состояться только благодаря путешествию, погружению в иное пространство, принципиальному изменению прежнего образа жизни: «Дни мелькали, жизнь грозила пустотой, сумерками, вечными буднями: дни, хоть порознь разнообразные, сливались в одну утомительно-однообразную массу годов. Зевота за делом, за книгой, зевота в спектакле, и та же зевота в шумном собрании и в приятельской беседе! …. Я обновился; все мечты и надежды юности, сама юность воротилась ко мне. Скорей, скорей в путь!» [Гончаров, 1976, с. 12].
Но такой, почти романтический эмоциональный порыв мгновенно сменяется в повествовании на сложную синтаксическую конструкцию, посвященную сугубо логическим рациональным размышлениям автора-путешественника о том, как нужно путешествовать? Какова должна быть цель истинного путешествия? Как познавать иной мир? Можно даже выделить некую воспитательную интенцию, направленную другим путешественникам, автор как будто полемизирует с традиционной точкой зрения на ситуацию путешествия:
«Мне хотелось путешествовать не официально, не приехать и “осматривать”, а жить и смотреть на все, не насилуя наблюдательности, не задавая себе утомительных уроков осматривать ежедневно <…> Вообще боль- шая ошибка — стараться собирать впечатления; соберешь чего не надо, а что надо, то ускользнет. Если путешествуешь не для специальной цели, нужно, чтобы впечатления нежданно и незванно сами собирались в душу; а к кому они так не ходят, тот лучше не путешествуй <…> Да, путешествовать с наслаждением и с пользой значит пожить в стране и хоть немного слить свою жизнь с жизнью народа, который хочешь узнать: тут непременно проведешь параллель, которая и есть искомый результат путешествия. Это вглядыванье, вдумыванье в чужую жизнь, в жизнь ли целого народа или одного человека, отдельно, дает наблюдателю такой общечеловеческий и частный урок, какого ни в книгах, ни в каких школах не отыщешь <…> Пожалуй, без приготовления, да ещё без воображения, без наблюдательности, без идеи, путешествие, конечно, только забава» [Гончаров, 1976, с. 35—36]. Такое восприятие миссии путешественника, скорее, напоминает особый просветительский взгляд на ситуацию путешествия в целом: путешествие как самовоспитание личности, процесс познания нового, чужого мира, осознание себя через постижение иного Я, созерцание и наблюдение чужой жизни как наука.
Подобная рациональная установка постепенно вновь меняется, в повествовании появляется все больше эмоциональных фрагментов, выражающих смену настроения путешественника, обилие риторических вопросов демонстрируют процесс возвращения к прежним проблемным точкам в сознании пишущего субъекта: зачем путешествие? Так неожиданно появляются рассуждения о негативных последствиях путешествия: «Скучное дело качка; все недовольны; нельзя как следует читать, писать, спать; видны также бледные, страдальческие лица. Порядок дня и ночи нарушен, кроме собственного морского порядка, который, напротив, усугублен. Но зато обед, ужин и чай становятся как будто посторонним делом. Занятия, беседы нет… Просто нет житья! <…> Боже мой! Кто это выдумал путешествия? <…> Так вот она, странническая жизнь, исполненная приключений, тревог, бурь, волнений, о которых я вздыхал на берегу! Ну, заварил кашу, наслаждайся теперь! Неблагодарная память не сохраняет добра. Тут является жалкое, отравляющее жизнь на море чувство — раскаяния: зачем поехал!» [Гончаров, 1976, с. 67].
Такое состояние разочарования приводит автора не только к полемическим вопросам и претензиям к себе, но и к собратьям по перу, поэтам, появляется очевидная «антиромантическая», даже в целом «антилитера-турная» интенция: «… я выбрался из каюты… неблагосклонно взглянул на океан и… мысленно поверял эпитеты, данные ему Байроном, Пушкиным, Бенедиктовым и другими — “угрюмый, мрачный, могучий”, и Фад- деевым — ”сердитый” <…> Соленый, скучный, безобразный и однообразный! — прибавил я к этому списку, сходя по трапу вниз, — заладил одно — и конца нет!» [Гончаров, 1976, с. 67]. Так традиционный для морских путешествий образ океана наделяется новыми коннотациями автора, разочарованного в романтическом ореоле путешествия как возвышающего душу процесса, о чем отмечалось в самом начале путевых записок.
В заключительной главе выделенная ранее установка автора более очевидна: «Притом 2 года плавания не то что утомили меня, а утолили вполне мою жажду путешествия. Мне хотелось домой, в свой обычный круг лиц, занятий и образа жизни <…> Обаяние, производимое величественною картинностью моря и берегов, возымело свое действие надо мной. Я невольно отдавался ему, но потом опять возвращался к своим сомнениям: привыкну ли к морской жизни, дадут ли мне покой ревматизмы? <...> Боже мой, да я ничего не понимаю! — думал я в ужасе, царапая сухим пером по бумаге, — зачем я поехал!» [Гончаров, 1976, с. 563].
Описание радости от новизны впечатлений путешественника в записках И. А. Гончарова очень быстро сменяется противоположной стратегией — сомнением в необходимости менять прежний образ жизни, желанием вернуть свой мир или хотя бы увидеть в чужом мире аналогию с родным: «Другие говорят, что если они плавают долго в море, им хочется берега; а поживут на берегу, хочется в море. Мне совсем не так: если мне где-нибудь хорошо, я начинаю пускать корни. Меня влечет уютный домик с садом, с балконом, останавливает добрый человек, хорошенькое личико <…> Как улыбаются мне теперь картины сухопутного путешествия, если бы вы знали, особенно по России! Едешь не торопясь, без сроку, по своей надобности, с хорошими спутниками; качки нет, хотя и тряско, но то не беда. Колокольчик заглушает ветер. В холодную ночь спрячешься в экипаже, утонешь в перины, закроешься одеялом — и знать ничего не хочешь… Ах! Где вы, милые, знакомые явления? А здесь что такое? Одной рукой пишу, другой держусь за переборку; бюро лезет на меня. Я лезу на стену…» [Гончаров, 1976, с. 186].
А в некоторых главах автор сознательно бросает вызов прежним путешественникам, характеризующим эти места с положительной стороны (например, в главе «Ликейские острова» — разрушение стереотипов (о золотом веке)): «Скажите, пожалуйста: эти добродетельные, мудрые старцы — шпионы, картежники, пьяницы? Кто бы это подумал! Вот тебе и идиллия, и золотой век, и Одиссея! <...> Не верьте Базилю Галлю, в ней (его книге) ни одного слова правды нет, все диаметрально противоположно истине!» [Гончаров, 1976, с. 386].
Таким образом, анализ различных нарративных стратегий автора путешественника, представленных в сопоставлении взгляда на мир с точки зрения двух сознаний «скромного чиновника» и «нового аргонавта», позволяет охарактеризовать феномен повествования в путевых очерках И. А. Гончарова, с одной стороны, как синкретичный, сочетающий элементы ученого и литературного путешествий, с другой стороны, как индивидуально-авторский, демонстрирующий разрушение всевозможных шаблонов и стереотипов жанровой формы травелога, сложившейся к 50-м годам XIX века. В путевой прозе автора происходит усиление субъективно-личностного начала, что выражается в повествовании в постоянной смене нарративных стратегий, демонстрирующей постоянный поиск точки зрения на мир. Очерки последовательно превращаются в саморефлек-сию, самопознание, в долгое путешествие к себе. Попытка внутреннего духовного перерождения (из чиновника в аргонавта), заявленная в начале повествования, последовательно меняется на противоположный путь — возвращение к себе прежнему, желание в другом увидеть себя.
Список литературы "Фрегат Паллада" И. А. Гончарова в контексте жанра травелога: нарративные стратегии чиновника-путешественника
- Гончаров И. А. Фрегат «Паллада»: очерки путешествия в двух томах/И. А. Гончаров. -Москва: Советская Россия, 1976. -608 с.
- Гуминский В. М. Открытие мира, или Путешествия и странники: о русских писателях 19 века/В. М. Гуминский. -Москва: Современник, 1987. -284 с.
- Дыдыкина О. А. Эволюция стиля русских литературных путешествий конца XVIII -первой половины XIX вв.: от Н. М. Карамзина до И. А. Гончарова: диссертация.. кандидата филологических наук/О. А. Давыдкина. -Москва, 1998. -251 с.
- Иванова Н. В. Жанр путевых записок в русской литературе первой трети XIX века: тематика, поэтика: диссертация … кандидата филологических наук: 10.01.01/Н. В. Иванова. -Москва, 2010. -270 с.
- Ивашина Е. С. О специфике жанра «путешествия» в русской литературе первой трети XIX века/Е. С. Ивашина//Вестник Московского университета. Сер. 9. Филология. -1979. -№ 3. -С. 3-16.
- Куприянов П. С. Русское заграничное путешествие начала XIX века: парадоксы литературности/П. С. Куприянов//Историк и художник. -2004. -№ 1. -С. 59-73.
- Материалы конференции «Власть маршрута»: путешествие как предмет историко-культурного и философского анализа//Труды Русской антропологической школы. -Москва: Изд-во РГГУ, 2013. -Том 13. -С. 25-277.
- Русский травелог XVIII-XX веков: коллективная монография/под ред. Т. И. Печерской. -Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2015. -656 с.
- Феноменология, история и антропология путешествия: тезисы международной Гумбольдтовской конференции (СПбГУ, 16-19 апреля 2013 г.)/сост., ред. М. Кобельт-Грох, О. Кулишкина, Л. Полубояринова. -Киль: Соливагус, 2015. -584 c.
- Юркина Ю. В. Жанровые нормы «путешествия» и идиостиль писателя: очерки путешествия И. А. Гончарова «Фрегат "Паллада"»: автореферат диссертации.. кандидата филологических наук: 10.02.01/Ю. В. Юркина. -Санкт-Петербург, 2009. -252 с.