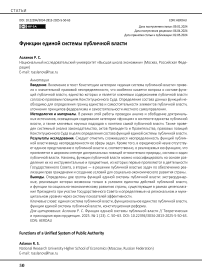Функции единой системы публичной власти
Автор: Асланов Р.С.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 (23), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Включение в текст Конституции категории «единая система публичной власти» привело к значительной правовой неопределенности, что особенно касается вопроса о составе функций публичной власти, единство которых и является ключевым содержанием публичной власти согласно правовым позициям Конституционного Суда. Определение состава данных функций необходимо для определения границ единства и самостоятельности элементов публичной власти, уточнения принципов федерализма и самостоятельности местного самоуправления.Методология и материалы. В рамках этой работы проведен анализ и обобщение доктринальных источников, освещающих содержание категории «функция» в контексте единства публичной власти, а также ключевых научных подходов к понятию самой публичной власти. Также проведен системный анализ законодательства, актов Президента и Правительства, правовых позиций Конституционного Суда в целях определения состава функций единой системы публичной власти.Результаты исследования. Следует отметить сложившуюся неопределенность функций публичной власти ввиду неопределенности ее сферы задач. Кроме того, в юридической науке отсутствует единое представление о публичной власти и, соответственно, о реализуемых ею функциях, что проявляется в широком спектре доктринальных позиций относительно природы, состава и задач публичной власти. Наконец, функции публичной власти можно классифицировать на основе разделения их на инструментальные и предметные, из которых первые проявляются в деятельности Государственного Совета, а вторые - в решении публичной властью задач по обеспечению реализации прав гражданами и созданию условий для социально-экономического развития страны.Выводы. Определены две группы функций единой системы публичной власти: экстраординарные, реализация которых возможна только в условиях единства действий публичной власти, и функции по социально-экономическому развитию страны, существующие в рамках целеполагания Президента при участии Государственного Совета и определяемые на региональном и муниципальном уровнях через систему показателей эффективности.
Единая система публичной власти, функциональное единство публичной власти, функции единой системы публичной власти, конституционная реформа
Короткий адрес: https://sciup.org/14133145
IDR: 14133145 | DOI: 10.22394/3034-2813-2025-5-50-63
Текст научной статьи Функции единой системы публичной власти
В Заключении Конституционного Суда РФ от 16 марта 2020 г. № 1-З1 (далее — Заключение) функциональное единство публичной власти представлено как основное ее свойство. В то же время сущность самих функций публичной власти представлена крайне расплывчато, а состав этих функций не определен ни Конституцией, ни иными нормативными актами, что приводит к необходимости доктринального определения состава функций единой системы публичной власти.
Согласно Федеральному закону от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ2, под единой системой публичной власти понимаются федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, иные государственные органы, органы местного самоуправления в их совокупности (ч. 1 ст. 2) (далее — элементы единой системы публичной власти). При этом границы полномочий Президента и Государственного Совета по обеспечению согласованного функционирования элементов единой системы публичной власти не определены законодательно, что приводит к существенному пробелу в системе сдержек и противовесов, а также к конфликту принципа единства публичной власти и принципов федерализма и самостоятельности местного самоуправления.
Например, Указом Президента от 4 февраля 2021 г. № 683 утвержден Перечень показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов РФ и деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ. Одним из подобных показателей является доверие к власти, в том числе доверие к Президенту. Участие в определении плановых значений данного показателя (как и иных) принимает Государственный Совет в соответствии с Указом Президента от 21 декабря 2020 г. № 8004, исходя из чего можно сделать вывод об использовании подобных показателей в качестве механизма координации деятельности публичной власти.
Таким образом, в рамках координации деятельности единой системы публичной власти на субъекты РФ, независимо от их волеизъявления, возлагается задача, выходящая за рамки предметов ведения РФ и совместного ведения РФ и субъектов Федерации.
Координация деятельности элементов публичной власти не может быть произвольной и должна быть обусловлена теми целями и задачами, которые стоят перед публичной властью в целом, с учетом конституционно и законодательно определенных границ полномочий публичной власти на разных уровнях.
Определение состава функций единой системы публичной власти или, по крайней мере, принципов их построения может служить основой для «настройки» нормативной базы в сфере организации публичной власти как на уровне субъектов РФ, так и на уровне местного самоуправления.
Методология и материалы
В рамках этой работы проведен анализ и обобщение доктринальных источников, осветивших тематику правового содержания категории «публичная власть», в целях определения ключевых научных подходов, связанных как с природой публичной власти, так и с конституционным принципом ее функционального единства. В частности, данное исследование опирается на работы В. Е. Чиркина, С. А. Авакьяна, Ю. Ю. Сорокина, О. А. Кожевникова, А. Н. Костюкова и А. А. Ларичева и других ученых. Особое внимание уделено категории «функция» применительно к единой системе публичной власти и ее элементам, содержание которой определено на основе анализа работ А. А. Смирновой, А. Ф. Малого, Д. Н. Бахраха, Б. В. Россинского, Ю. Н. Старилова, а также системного анализа использования указанной категории в российском законодательстве, актах Президента Российской Федерации и правовых позициях Конституционного Суда. Наконец, в рамках данной работы произведена попытка определить основные функции единой системы публичной власти на основе научных представлений о самой публичной власти, а также системного анализа законодательства Российской Федерации, актов Президента и Правительства и правовых позиций Конституционного Суда с учетом сложившейся правовой модели целеполагания на национальном уровне.
Подходы к пониманию категории «функция» применительно к единой системе публичной власти и ее элементам
Прежде всего, для целей данного исследования следует определить категорию «функция» применительно к единой системе публичной власти и ее элементам.
В российской юридической науке существует давнее противоречие, которое удачно артикулировала А. А. Смирнова: существуют разногласия относительно трактовки функций и полномочий государственных органов5. Содержание проблемы связано с закреплением в нормативных актах функций «технического характера», определяющих, по мнению А. А. Смирновой, скорее видовые различия органов государственной власти, нежели содержание их деятельности.
Например, Указ Президента от 9 марта 2004 г. № 3146 определяет четыре основные функции федеральных органов исполнительной власти: принятие нормативно-правовых актов, контроль и надзор, оказание государственных услуг, управление государственным имуществом. Данные функции во многом корреспондируют (за исключением управления общественно-политическими и социальными процессами) функциям публичной власти, выделенным С. А. Авакьяном7. В то же время они лишь характеризуют способ достижения тех или иных целей федеральных органов исполнительной власти.
Аналогичной позиции придерживается, например, А. Ф. Малый, который в работе «Функции органов государственной власти: институционализация правовой категории» приходит к выводу об избегании использования термина «функция» в отношении содержания деятельности органов государственной власти8. Более того, Федеральный конституционный закон от 6 ноября 2020 г. № 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» в его последней редакции понятия «функция» вообще не содержит9, в отличие от предыдущих версий10.
Под функциями в федеральном законодательстве, актах Президента и правительства понимаются прежде всего функции как управленческие свойства органов государственной власти. По мнению А. Ф. Малого, в сложившейся нормативной системе «содержание функций несводимо к правам и обязанностям», что является неподходящей интерпретацией для определения соотношения функций органов государственной власти с функциями единой системы публичной власти, поскольку формулировки Конституционного Суда РФ относительно последних прямо отсылают к правам и свободам человека.
Наиболее подходящей в контексте функций единой системы публичной власти является подход Д. Н. Бахраха, Б. В. Россинского и Ю. Н. Старилова, сформулированный ими еще в 2008 г.11 Согласно позиции авторов, термин «функция» в юридической науке можно понимать с точки зрения предметного и инструментального подходов. Так, в действующем российском законодательстве и актах Президента и правительства под функциями понимаются прежде всего инструментальные функции управления. В то же время предметные функции государственной администрации производны от их полномочий12.
Из представленного следует, что предметные функции органов государственной власти являются их деятельностью по обеспечению реализации вопросов собственного ведения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также их совместного ведения. В соответствии с этой логикой неизбежно следует вывод и о том, что решение вопросов местного значения является предметной функцией органов местного самоуправления.
В то же время, если разграничение предметов ведения Российской Федерации и ее субъектов закреплены на конституционном уровне, а конкретные полномочия и вопросы местного значения закреплены нормативно13, то сфера задач единой системы публичной власти остается неопределенной, что и создает трудности при определении ее специфических функций.
Доктринальное понимание функций публичной власти
В юридической науке встречаются разнообразные представления относительно функций единой системы публичной власти. При этом само понятие «единая система публичной власти» — новое для российской правовой науки, и многие исследователи при определении ее функций использовали термин «публичная власть», что в совокупности с изменившейся системой восприятия публичной власти на конституционном и нормативном уровнях в некоторых случаях лишило подобные работы актуальности.
Например, позиция об отсутствии самостоятельных функций публичной власти, высказанная В. Е. Чиркиным в работе «Публичная власть», представляется не соответствующей современным представлениям о единой системе публичной власти14. В. Е. Чиркин в принципе отрицал существование функционального единства между федеральной, региональной и муниципальной властью, считая, что публичная власть формируется и проявляется на каждом из уровней отдельно и исполняет различные функции. Говоря об осуществлении публичной власти в субъектах РФ и в муниципальных образованиях, В. Е. Чиркин характеризовал ее как «свою», имея в виду принадлежность публичной власти к каждому субъекту Федерации и муниципальному образованию. Государственная и публичная власти, по мнению В. Е. Чиркина, в субъектах и муниципальных образованиях существуют параллельно и связаны только нормативными актами вышестоящего уровня, а не каким-либо иным единством.
Позиция В. Е. Чиркина опровергается в Заключении, из которого напрямую следует функциональное единство публичной власти. В то же время автор прав в части проявления функций публичной власти на каждом из ее уровней в особых формах, свойственных данным уровням, исходя из их конституционноправовой природы и распределения компетенций между ними, поскольку иное бы означало конфликт функционального единства публичной власти и конституционных принципов федерализма и самостоятельности местного самоуправления.
С. А. Авакьян в рамках коллективной монографии обобщенно выделил следующие функции публичной власти15:
-
1) нормотворчество (правотворчество);
-
2) руководство и управление общественно-политическими, народнохозяйственными и социальными процессами;
-
3) распоряжение собственностью, материально-финансовыми ресурсами;
-
4) контрольно-надзорная деятельность.
В целом указанный перечень не вызывает нареканий, за исключением степени детализации отдельных функций, которые, по мнению автора, могут быть раскрыты в зависимости от особенностей деятельности конкретного вида публично-властных органов. В то же время данный перечень не отвечает на вопрос о том, каким способом можно соотнести функциональное единство публичной власти с другими конституционными принципами. Так, если непротиворечивость актов нижестоящих элементов публичной власти актам вышестоящих элементов представляется интуитивно понятной, то функциональное единство с точки зрения руководства общественно-политическими и социальными процессами, а также распоряжения собственностью не могут сами по себе являться объектами согласования действий. В таком контексте они скорее являются средствами обеспечения функционального единства публичной власти или инструментальными функциями публичной власти, поскольку могут использоваться в качестве рычагов воздействия на определенный объект в целях приведения его в желаемое состояние.
В другой своей работе С. А. Авакьян говорит о комплексном характере функций публичной власти, но не высказывает мнения относительно наличия или отсутствия ее функционального единства16. Тем не менее, забегая вперед, необходимо отметить, что указанная позиция соотносится со сложившейся моделью стратегического планирования на уровне Государственного Совета, определяющей задачи национального характера, закладываемые в основу определения функций единой системы публичной власти.
Применимой к современным конституционно-правовым реалиям представляется позиция Ю. Ю. Сорокина, сформулированная в работе «Публичная власть и интересы общества: проблемы взаимодействия», которая заключается в том, что публичная власть по определению решает «общие дела» — артикулированные общественные интересы17. При этом, учитывая состав публичной власти, артикуляция таких интересов должна происходить на всех ее уровнях и трансформироваться в задачи по решению социально-экономических запросов общества. Следовательно, и механизм артикуляции подобных решений должен представлять некий «единый центр», включающий представителей всех уровней публичной власти. Государственный Совет фактически исполняет подобную функцию, за тем лишь исключением, что представители местного самоуправления включаются в него опционально по решению Президента. Например, в состав Государственного Совета не входит ни один представитель местного самоуправления, в то время как представители политических партий (также включаемых в состав Государственного Совета по решению Президента) в составе органа представлены. Подобное положение дел может сказываться на адекватности состава функций единой системы публичной власти применительно к уровню местного самоуправления, поскольку их участие в артикуляции общественных интересов и формулировании задач социально-экономического развития является опосредованным.
Схожая позиция о содержании функций единой системы публичной власти в задачах социально-экономического развития выражена в работе «Единая система публичной власти: дискуссионные аспекты нормативной регламентации», написанной О. А. Кожевниковым, А. Н. Костюковым и А. А. Ларичевым, в рамках которой авторы используют понятие «девелопментализм» применительно к содержанию функций публичной власти18. По мнению авторов, в основе идеи девелопментализма лежит понятие «государство развития», идеологически опирающееся на способность вывести страну из бедности и добиться качественного, трансформирующего жизнь граждан экономического роста. И хотя авторы соглашаются с тезисом о социально-экономическом развитии страны как источнике функций единой системы публичной власти, особый акцент делается на слабую применимость данной идеи к местному самоуправлению, ввиду самой природы последнего, отраженной в ч. 1 ст. 130 Конституции РФ («местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения»). Из представленного следует, что функции единой системы публичной власти не должны подменять природу местного самоуправления, что представляется затруднительным с точки зрения обеспечения функционального единства публичной власти. Выходит, что при проецировании задач социально-экономического развития на уровень муниципальных образований функции последних как «нижнего» элемента единой системы публичной власти должны быть реализованы в рамках решения вопросов местного значения населением.
Другие авторы, например, Г. Г. Фастович и Т. В. Шитова в работе «К вопросу об эффективности единой системы публичной власти», фактически отождествляют функции единой системы публичной власти и функции органов государственной власти и органов местного самоуправления19.
В то же время такое распространение функций единой системы публичной власти в контексте функционального единства означает возможность Президента включаться в координацию любых полномочий всех элементов единой системы публичной власти.
Таким образом, в правовой науке прослеживаются весьма различные представления о функциях единой системы публичной власти: обобщенное перечисление функций, которые можно характеризовать как «инструментальные» (С. А. Авакьян); отказ от функционального единства как свойства публич- ной власти, следовательно, отсутствие обобщающей категории для функций органов государственной власти и местного самоуправления (В. Е. Чиркин); полное совпадение функций единой системы публичной власти и всех ее элементов (Г. Г. Фастович и Т. В. Шитова); функции публичной власти как верхне-уровневые, стратегические функции, определенные общим благом, выраженным в целях социальноэкономического развития (О. А. Кожевников, А. Н. Костюков, А. А. Ларичев и Ю. Ю. Сорокин).
Функции единой системы публичной власти: конституционно-правовое содержание
Отдельные положения относительно сущности функций публичной власти содержатся в правовых позициях Конституционного Суда РФ.
Во-первых, в Заключении под функциональным смыслом единой системы публичной власти подразумевается согласованное действие различных уровней публичной власти как единого целого во благо граждан. Обеспечение указанного блага, по сути, и является контекстуальным смыслом единой системы публичной власти.
Во-вторых, в рамках Постановления Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П неоднократно отмечалось, что цель обеспечения «эффективного и согласованного функционирования системы публичной власти» может достигаться только в рамках конституционно определенного разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и ее субъектами, из чего может следовать и аналогия к принципу самостоятельности местного самоуправления, как дополнительной границы при достижении целей публичной власти20. Таким образом, прослеживается взаимосвязь между компетенцией уровней публичной власти и функциями публичной власти, но в то же время функции единой системы публичной власти не могут сводиться к функциям отдельных ее элементов, поскольку иное означало бы конфликт конституционных принципов функционального единства, федерализма и самостоятельности местного самоуправления.
В-третьих, в Заключении находят отражение две группы функций единой системы публичной власти: создание условий для обеспечения устойчивого и комплексного социально-экономического развития, а также функций демократического правового социального государства.
Первая группа функций представлена Конституционным Судом РФ на примере взаимодействия органов государственной власти субъекта РФ и органов местного самоуправления, функционирующих в пределах соответствующего субъекта, в контексте взаимного влияния данных органов для целей комплексного социально-экономического развития. Дополнительным подтверждением этого тезиса является формулировка «взаимодействие органов государственной власти и органов местного самоуправления при решении задач на соответствующей территории», которая хотя напрямую и не отражает конкретные «задачи», решаемые единой системой публичной власти, но отсылает к иерархичному принципу организации функций единой системы публичной власти, при котором некие комплексные задачи решаются в рамках полномочий каждого из уровней публичной власти21. Из этого следует, что объединение федеральных, региональных и местных органов в единую систему публичной власти означает формулирование комплексных задач социально-экономического развития, в пределах и в целях реализации которых и должно осуществляться функциональное взаимодействие элементов публичной власти.
Вторая группа функций представляется более широкой и может быть дополнена задачами по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, созданию условий для достойной жизни и свободного развития человека, которые отражены в качестве смысла функционального взаимодействия ор- ганов государственной власти и органов местного самоуправления в Постановлении Конституционного Суда РФ от 1 декабря 2015 г. № 30-П22. В то же время значительная часть функций всех элементов единой системы публичной власти так или иначе направлена на реализацию данных конституционных принципов, что требует дополнительной конкретизации и разграничения функций единой системы публичной власти и отдельных ее элементов.
Кроме того, обеим представленным функциям корреспондируют цели единой системы публичной власти в ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ23.
Таким образом, можно говорить о существовании как минимум двух групп функций единой системы публичной власти, осуществляемых уровнями единой системы публичной власти в рамках их компетенций на соответствующей территории:
-
– функции по созданию условий для социально-экономического развития страны;
-
– функции по обеспечению реализации прав и свобод человека и гражданина.
Кроме того, указанные функции в соответствии с позициями Конституционного Суда РФ ограничены тремя основными рамками:нацеленностью на обеспечение блага граждан, компетенцией каждого из уровней публичной власти и сформулированными задачами единой системы публичной власти.
Состав функций единой системы публичной власти
К первой группе функций по соблюдению и защите прав и свобод человека и гражданина, ввиду широты указанной категории, можно привязать практически все конституционные права граждан, закрепленные во второй главе Конституции, а также вопросы ведения Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и вопросы местного значения. Тем не менее подобная логика неминуемо приведет к полному отождествлению функций единой системы публичной власти с функциями всех ее элементов (которые так или иначе должны действовать во благо граждан и содействуют реализации их прав), следовательно, размывается баланс между функциональным единством публичной власти и другими конституционными принципами.
Из представленного следует, что функции единой системы публичной власти в данном контексте должны проявляться, когда реализация определенных прав и свобод человека и гражданина не может быть достигнута иначе как единым действием всех элементов единой системы публичной власти (причем вне зависимости от причин невозможности реализации данных прав и свобод иным образом).
Примерами подобных функций может являться в том числе организация выборов федерального уровня (Президента или депутатов Государственной Думы) или проведение референдума, когда право на участие в принятии решения общенационального значения должно быть обеспечено на всей территории страны по единым процедурным нормам.
Другим примером могут являться действия в условиях военного положения или чрезвычайного положения, когда цели в рамках организации обороны и безопасности страны требуют координации на всех уровнях публичной власти. Например, специальные меры вводятся на территории, на которой действует военное положение, Президентом согласно ст. 7 Федерального конституционного закона от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении»24. Причем часть из них прямо входит в сферу вопросов местного значения и полномочий органов государственной власти субъекта РФ25.
Формализация перечня подобных функций затруднительна, поскольку определение необходимости участия всех элементов единой системы публичной власти в тех или иных процессах может зависеть от сложившейся модели распределения полномочий, устанавливаемой федеральным законодателем, как сейчас в Федеральном законе от 21 декабря 2021 г. № 414-ФЗ «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации»26 и Федеральном законе от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»27. В каком-то смысле эти функции можно назвать «экстраординарными», поскольку их реализация не может возникать в рамках реализации привычного порядка распределения компетенций между уровнями публичной власти. В то же время представляется, что неизменно в сфере функций единой системы публичной власти останутся все вопросы, решение которых предполагает введение специальных режимов на определенной территории (например, военное и чрезвычайное положение), а также реализация отдельных направлений государственной политики, полномочия по реализации которых присутствуют на всех уровнях единой системы публичной власти.
В части группы функций, преследующих цель создания условий для социально-экономического развития государства, следует отметить, что функции Государственного Совета должны корреспондировать функциям единой системы публичной власти и соотноситься с ее целями. При этом сам Государственный Совет формируется Президентом в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти согласно п. е.5 ст. 83 Конституции Российской Федерации28, а также в целях определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.
Таким образом, в один ряд поставлены и реализуются одним органом задачи по согласованному действию единой системы публичной власти, стратегическому планированию и целеполаганию. Учитывая, что дизайн Государственного Совета предполагает включение представителей всех уровней единой системы публичной власти (в том числе представителей местного самоуправления по решению Президента), можно говорить о том, что стратегическое планирование как функция Государственного Совета является источником функций единой системы публичной власти.
Кроме того, ст. 6 Федерального закона от 8 декабря 2020 г. № 394-ФЗ «О Государственном Совете Российской Федерации» определяет следующие функции Государственного Совета, прямо направленные на установление целей единой системы публичной власти и, соответственно, определяющей ее функции29:
-
1. Обсуждение основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетные направления социально-экономического развития государства, в том числе основные направления регионального и муниципального развития.
-
2. Участие в определении критериев и показателей эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.
Таким образом, можно говорить, что функции единой системы публичной власти по созданию условий для социально-экономического развития страны определяются на основе взаимодействия ее элементов в рамках Государственного Совета и имеют по своей природе волатильный характер — склонны к видоизменению в зависимости от системы управления и сформулированных задач социально-экономического развития. При этом акты Государственного Совета не несут нормативный характер, а результаты его работы воплощаются в указах Президента. Например, в ключевом акте Президента, опре- деляющем направления социально-экономического развития страны, — указе о национальных целях развития. Сказанное подтверждается, в частности, тем, что состав рабочих органов Государственного Совета30 корреспондирует национальным целям развития Российской Федерации, определенным Президентом31.
Определение перечня функций единой системы публичной власти может быть обеспечено через систему национальных целей и их показателей, определенных Указом Президента РФ от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также корреспондирующим им показателям оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов РФ и органов местного самоуправления, определяемым Президентом. Схожей позиции придерживается и Н. В. Козлова, которая в своей работе «Единая система публичной власти как конституционный механизм эффективного решения задач в интересах населения муниципальных образований» раскрывает содержание функций публичной власти через методики расчета таких показателей эффективности32.
Следует отметить, что упомянутый Указ № 474 утратил силу в связи с выходом Указа Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»33, который тем не менее пока еще не получил раскрытие в актах Правительства РФ и правоприменительной практике. Таким образом, невозможно проанализировать Указа № 309 с точки зрения рассмотрения целевых показателей оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов РФ и органов местного самоуправления, в связи с чем в рамках данной работы произведена оценка целевых показателей из Указа № 474.
К числу таких целевых показателей, определенных в Указе № 474, относится обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации; снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года; вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования; улучшение качества городской среды в полтора раза; обеспечение темпа устойчивого роста доходов населения и уровня пенсионного обеспечения не ниже инфляции и др.
Представленные показатели национальных целей корреспондируют показателям для оценки эффективности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом Президента от 4 февраля 2021 г. № 68: численность населения субъекта Российской Федерации; уровень бедности; уровень образования; качество городской среды; темп роста (индекс роста) реального среднедушевого денежного дохода населения и др.34
Также показатели национальных целей соответствуют показателям оценки эффективности деятельности местного самоуправления, утвержденным Указом Президента от 28 апреля 2008 г. № 60735 и Постановлением Правительства от 17 декабря 2012 г. № 131736.
Можно привести ряд примеров. Во-первых, указанное справедливо для вопросов здравоохранения. Показатели «повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет», «увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов» национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» связаны с показателями эффективности высших должностных лиц субъектов РФ «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении» и «Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом», а также с показателем эффективности местного самоуправления «Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом». Во-вторых, связь показателей прослеживается для политики по снижению уровня бедности. Показатель «снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года» национальной цели «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей» связан с показателем эффективности высших должностных лиц «Уровень бедности», а также с показателем эффективности местного самоуправления «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников». Наконец, рассмотрим политику в области повышения качества городской среды. Показатель «улучшение качества городской среды в полтора раза» национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни» связан с показателем эффективности высших должностных лиц «Качество городской среды», а также с показателем эффективности местного самоуправления «Уровень фактической обеспеченности парками культуры и отдыха».
Из представленного следует значимая закономерность — показатели национальных целей почти в дословном виде дублируются на уровне субъектов РФ и местного самоуправления, что может приводить к выводу, что данные показатели и являются формализованным перечнем функций элементов публичной власти на каждом из ее уровней.
Достижение указанных показателей координируется федеральными органами исполнительной власти через систему государственных программ и национальных проектов (последние прямо направлены на достижение целей, определенных Указом от 21.07.2020 № 474), что также подтверждается неоднократными ссылками на указанные программы и проекты в методиках расчета показателей эффективности органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов РФ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2021 г. № 54237.
В то же время какие-либо однозначные способы достижения указанных показателей не формулируются ни для федеральных органов власти, ни для региональных или муниципальных органов. Сказанное означает, что предполагается достижение показателей национальных целей на каждом из уровней через реализацию собственных полномочий, из чего следует «целеустанавливающий» характер показателей. Следовательно, функции публичной власти как бы накладываются на полномочия и функции отдельных ее элементов, определяют их конечный результат.
Таким образом, через систему целеполагания на уровне органа, координирующего согласованное взаимодействие элементов единой системы публичной власти, формулируются целевые показатели, определяющие задачи и, соответственно, функции публичной власти на всех уровнях через системы национальных проектов, государственных программ и показателей эффективности органов исполнительной власти и высших должностных лиц субъектов РФ и органов местного самоуправления. При этом указанные функции накладываются на функции элементов единой системы публичной власти как госу- дарственных и муниципальных органов по решению вопросов соответствующего уровня, из чего следует, что функции единой системы публичной власти определяются как наиболее приоритетные задачи государственного развития.
В то же время механизм установления показателей эффективности для уровней публичной власти в сложившемся правовом регулировании фактически является единственным механизмом определения предметных функций публичной власти на региональном и муниципальном уровнях. Проблемным в сложившемся правовом регулировании является вопрос соответствия таких задач нормативно-установленным полномочиям элементов публичной власти и фактическим возможностям их решения. Яркий пример отсутствия такого соответствия — показатель эффективности местного самоуправления «Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников», который не подкреплен полномочиями органов местного самоуправления в соответствии со ст. 17 131-ФЗ. В настоящее время можно говорить о том, что монополия Президента на определение функций единой системы публичной власти по социально-экономическому развитию страны (пускай и процедурно опосредованная механизмами Государственного Совета) может приводить к нарушению принципов федерализма и самостоятельности местного самоуправления, накладывая нормативно необусловленные задачи на субъекты РФ и органы местного самоуправления.
Выводы
Из выше представленного следует, что существуют две группы функций единой системы публичной власти, на которые и направлено обеспечение ее функционального единства:
-
– функции по обеспечению реализации прав и свобод человека и гражданина;
-
– функции по созданию условий для социально-экономического развития страны.
Первая группа функций раскрывается через обеспечение реализации прав и свобод граждан в тех ситуациях, когда решение подобных задач возможно только путем координации действий всех элементов единой системы публичной власти. Примером реализации таких функций являются действия единой системы публичной власти в условиях военного положения.
Вторая группа функций раскрывается через ключевые задачи социально-экономического развития, определяемые Президентом и проецируемые на все уровни единой системы публичной власти через показатели национальных проектов и государственных программ, а также показатели эффективности деятельности отдельных элементов публичной власти на разных уровнях. По сути, перечень подобных функций определяется в сформулированных Президентом национальных целях (для федерального уровня) и показателями эффективности высших должностных лиц субъектов РФ и органов местного самоуправления (для регионального и муниципального уровней).
Обе указанные функции исполняются в рамках компетенции каждого из уровней единой системы публичной власти, но отождествление данных функций с полномочиями органов государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления представляется некорректным. Точнее говорить о том, что функции единой системы публичной власти «накладываются» на реализацию полномочий ее элементов, придавая данным полномочиям целеориентированный характер.
Кроме того, возвращаясь к классификации функций Д. Н. Бахраха, Б. В. Россинского и Ю. Н. Старилова, можно выделить и инструментальные функции единой системы публичной власти, которые проявляются через деятельность Государственного Совета и обеспечивают реализацию предметных функций единой системы публичной власти. К подобным функциям можно отнести артикуляцию запросов и вызовов на различных уровнях единой системы публичной власти (местном, региональном и национальном), целеполагание и определение целевых показателей эффективности реализации функций единой системы публичной власти, оценку эффективности деятельности элементов единой системы публичной власти.
Таким образом, функции единой системы публичной власти более динамичны по отношению к функциям отдельных ее элементов, поскольку зависят от текущих вызовов социально-экономического положения страны и сложившегося политического вектора в виде повестки (программы) Президента.
В то же время функции единой системы публичной власти можно считать «надфункциями» органов государственной власти Российской Федерации, субъектов РФ и органов местного самоуправления, так как они обеспечивают свой вклад в достижение общенациональных целей и решение задач масштабов всей страны.
Наконец, ключевым вызовом при формулировании функций публичной власти на каждом из ее уровней является обеспечение их соответствия полномочиям элементов публичной власти.