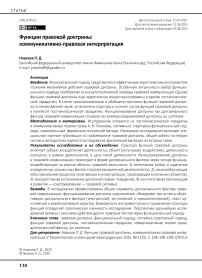Функции правовой доктрины: коммуникативно-правовая интерпретация
Автор: Новиков П.Д.
Журнал: Теоретическая и прикладная юриспруденция.
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 3 (25), 2025 года.
Бесплатный доступ
Введение. Функциональный подход представляется эффективным эвристическим инструментом познания механизмов действия правовой доктрины. Особенную актуальность выбор функционального подхода приобретает в силу аутопоэтической природы правовой коммуникации. Однако функции правовой доктрины еще недостаточно концептуализированы в рамках постнеклассической парадигмы. В статье проанализированы и обобщены трактовки функций правовой доктрины в отечественной науке, установлена структура и уточнен состав функций правовой доктрины в контексте постнеклассической парадигмы. Функционирование доктрины как доктринального фактора правовой коммуникации показано на примере средневековой доктрины Jus commune. Методология и материалы. Исследование опирается на постнеклассическую парадигму и коммуникативную теорию права А. В. Полякова, системный, структурно-функциональный подходы, сравнительный, формально-логический методы. Материалы исследования включают специальные научные публикации по проблематике правовой доктрины, общие работы по теории систем и методологии научного исследования, фактический материал из истории права. Результаты исследования и их обсуждение. Структура функций правовой доктрины включает субъект (осуществляет деятельность), объект (испытывает воздействие), деятельность (процессы в рамках деятельности) и цель такой деятельности. Функционирование доктрины в правовой коммуникации происходит в форме доктринального фактора через четыре функции, воздействующие на разные объекты правовой реальности: 1) селективная (отбор и наделение определенных социальных фактов статусом юридической релевантности), 2) смыслообразующая (обуславливание процессов легитимации и интерпретации, происходящих в сознании субъектов), 3) прескриптивная (установление доктриной правил поведения), 4) конститутивная (организация и развитие — конструирование — правовой системы). Выводы. В исследовании сформулированы общие параметры доктринального фактора правовой коммуникации: функционирование доктрины кумулятивное, объединяет три аспекта объективации доктринального фактора (текстуальный, когнитивный и праксиологический), носит циклический и возобновляемый характер. Возможность инструментального применения структуры функций определяет практическую значимость исследования. Перспективы дальнейших исследований связаны с анализом действия других правовых текстов через функциональный подход.
Правовая доктрина, функциональный подход, системно-структурный подход, функции правовой доктрины, постнеклассическая парадигма, коммуникативная теория права, доктринальный фактор, Jus commune
Короткий адрес: https://sciup.org/14133900
IDR: 14133900
Текст научной статьи Функции правовой доктрины: коммуникативно-правовая интерпретация
В современных исследованиях правовой доктрины уделяется внимание в том числе аспекту ее функций1. Эта сторона вопроса представляется особенно актуальной, ибо задача моделирования доктринального фактора (то есть действия правовой доктрины) в правовой коммуникации решается, как представляется, предпочтительнее именно на основе функционального подхода. Такой выбор обусловлен тем, что одна из основных постнеклассических теорий в отечественном правоведении — коммуникативная теория права А. В. Полякова — наделяет правовую систему свойством ауто-поэзиса. В трактовке немецкого социолога Н. Лумана это означает способность к «воспроизводству посредством репродукции своих элементов, из которых они (системы. — Прим. авт.) состоят»2, то есть самовоспроизводству. А. В. Поляков, хотя и не заостряет на этом внимание и не говорит об ау-топоэзисе правовой системы напрямую, тем не менее ссылается на известных чилийских биологов У. Р. Матурану и Ф. X. Варелу — авторов теории аутопоэзиса, чьи идеи повлияли также и на Н. Лумана. Полагаем, что идея самовоспроизводства права (правовой системы) имманентна концепции правовой коммуникации и логически из нее следует. Очевидно, что коммуникативная модель отношений идеальна — в «живой реальности» права невозможно говорить об абсолютном взаимопонимании субъектов коммуникации, поскольку даже один и тот же текст каждым человеком толкуется по-своему. Но как раз в результате этой незавершенности, в определенной степени неполноты коммуникации происходит ее развитие и самосовершенствование. Передавая каждый раз новое правовое сообщение, субъект провоцирует в сознании другого субъекта ответную реакцию интерпретации этого сообщения (текста). Сам А. В. Поляков об этом пишет так: «…Коммуникация определенным образом перестраивает сознание коммуникантов, адаптирует их друг к другу»3. Подобным образом можно наблюдать становление и усложнение системы правовой коммуникации, которое происходит в результате своих же собственных действий. Описанные процессы, как показывает С. В. Тихонова, охватываются используемым в системной теории понятием «самореференции», означающим самообоснование системы через ссылки на саму себя же4.
Философ Э. Г. Юдин подчеркивал, что целесообразность, присущая большому множеству (в том числе аутопоэтических) систем, не может быть объяснена в рамках одних только причинных взаимосвя-зей5. Согласимся с теми исследователями, которые полагают, что когда мы имеем дело с подобными системами, то наиболее наглядным и эффективным способом объяснения происходящих в них процессов будет объяснение функциональное, в большей степени свойственное именно системному анализу, нежели причинно-следственному6. Поскольку в качестве объекта моделирования, основанного на функциональном подходе, должна выступать функциональная структура исследуемого процесса7, за основу построения модели доктринального фактора следует взять функции правовой доктрины. Далее мы проанализируем и обобщим трактовки функций доктрины в отечественной юридической науке и определим главные контуры функционального действия правовой доктрины — доктринального фактора правовой коммуникации.
Методология и материалы
Исследование проблемы концептуализации функций правовой доктрины в контексте постнеклассической парадигмы осуществлено на основе коммуникативной теории права в том ее варианте, который предложен А. В. Поляковым. Для достижения задач исследования использованы формально-логический метод, сравнительный метод (для сопоставления научных позиций по проблеме), системный и струк- турно-функциональный методы, позволившие разработать структуру функций правовой доктрины и их состав.
Материалы исследования включают специальные научные публикации по проблематике правовой доктрины, общие работы по теории систем и методологии научного исследования. Действие доктринального фактора правовой коммуникации через функции доктрины проиллюстрировано на фактическом материале из истории средневековой правовой доктрины Jus commune .
Результаты исследования и их обсуждение
В целом в отечественной юриспруденции обнаруживается недостаточная философская и теоретикоправовая проработка функций правовой доктрины как юридической категории. До сих пор остается актуальным мнение, высказанное еще В. С. Нерсесянцем, о том, что в отечественной литературе преобладают позитивистские подходы к исследованию проблематики правовой доктрины8, что заметно и в случае с ее функциями. Такие авторы, как А. А. Зозуля, Д. Ю. Любитенко, А. Н. Чашин, исследуя функции правовой доктрины, рассуждают в позитивистском и догматическом ключе: подчеркивается ведущая роль закона и государства, от которых правовая доктрина наряду с иными источниками права получает свою юридическую силу9; роль доктрины сводится к «адаптации содержания властных предписаний к изменяющимся общественным отношениям, не получающим должного правового регулирования»10; аргументация строится на понимании статуса доктрины в текущей правовой системе Российской Федерации11. Полагаем, в аспекте изучения функций правовой доктрины возможности позитивистской методологии уже исчерпаны. Базисные положения постнеклассической парадигмы обнаруживаются при рассмотрении работ Н. В. Разуваева и А. М. Михайлова, которые отмечают роль доктрины в конструировании правовой реальности, способствующую непрекращающемуся развитию и обновлению последней12. Этими авторами предлагаются и перечни функций правовой доктрины, что представляет интерес для настоящего исследования.
Однако обращает на себя внимание тот факт, что ученые, предлагающие свое видение функций правовой доктрины, не раскрывают при этом их понятие и структуру. Функции приписываются доктрине как бы априори. Восполнение этого пробела позволило бы более фундаментально обосновать учение о функциях доктрины и дальнейшее моделирование доктринального фактора правовой коммуникации на основе функционального и коммуникативного подходов. В этом контексте интересно замечание С. Н. Туманова, который заостряет внимание на проблеме терминологической путаницы, иногда приводящей к отождествлению «функций государства» с такими понятиями, как «цель», «задачи», «деятельность», «действие», «результат» и проч.13 Это лишний раз подчеркивает, что и теория функций правовой доктрины нуждается в тщательной проработке, одним из шагов которой должно стать уяснение структуры функций, поскольку она могла бы стать важнейшим средством анализа и сравнения различных позиций относительно конкретного состава функций доктрины. На данный момент следует констатировать отсутствие каких-либо предложений на этот счет в юридической литературе, например, в отличие от проблематики, связанной со структурой функций государства, разработанной значительно подробнее.
Так, Н. Н. Вопленко и А. В. Козлов, усовершенствовав сформулированную А. П. Глебовым идею о структуре функции государства, выделили в ее составе объект, субъект, деятельность государства и цель такой деятельности14. Полагаем, что указанный подход допустимо адаптировать применительно к теоретической дискуссии о структуре функции правовой доктрины, определив для последней следую- щие элементы: субъект (не стоит путать с субъектом права — в данном случае имеется в виду тот элемент социальной системы, который осуществляет целенаправленную деятельность), объект (элемент социальной системы, испытывающий воздействие, в котором происходят изменения), деятельность (процессы, происходящие в рамках осуществления функции) и цель такой деятельности.
Оправданность перенесения такого подхода для разработки функций доктрины обусловлена тем, что «функция» представляет собой общетеоретическое понятие, описывающее деятельность различных социальных систем — как государства, так и доктрины, представленной в виде системы социальных практик, в силу которых авторитетное сообщество юристов имеет возможность конструировать правовую систему («доктринальный фактор правовой коммуникации»). Основу такого понимания можно найти, в частности, в работах известного американского социолога, одного из авторов структурно-функциональной теории Т. Парсонса, утверждавшего принцип «действие есть система» ( action is system )15. Вследствие выявления такой связи становится возможным (и оправданным) функциональный анализ разнообразных социальных систем.
Используя установленную структуру, проанализируем с этой точки зрения функции правовой доктрины, выделенные Н. В. Разуваевым и А. М. Михайловым. Сделаем оговорку: будем считать, что субъект функций правовой доктрины условно везде один и тот же — авторитетное сообщество ученых-юри-стов16.
У Н. В. Разуваева декларируются следующие функции правовой доктрины: селективная, прескриптивная, смыслообразующая, конститутивная и динамическая17. В результате анализа авторской позиции можно заметить, что конститутивная и динамическая функции в значительной степени пересекаются и даже дублируются в объекте, деятельности и цели. Так, правовая реальность как объект обеих функций представляет уже организованное множество юридически релевантных фактов, но деятельность по их организации происходит постоянно; описание фактов и выявление закономерных причинно-следственных связей как виды деятельности в структуре конститутивной функции являются, по существу, разновидностями методов получения нового знания, что отличает динамическую функцию; в ходе непрерывной организации правовой реальности происходит и ее трансформация (цели). В результате динамическая функция с точки зрения объекта и цели охватывается конститутивной, и наоборот, — функциональные процессы динамической функции оказываются шире, чем у конститутивной. Полагаем, что объединение этих функций в одну — конститутивную (с соответствующим ее расширением путем добавления динамического аспекта) — логичнее с точки зрения их структуры.
Что касается смыслообразующей функции, то в ее прочтении, предложенном Н. В. Разуваевым, она видится также включенной в объем конститутивной, поскольку совпадает с ней почти полностью: объект (правовая реальность), деятельность (смысловое наполнение феноменов, которое невозможно без признанных методов получения научных результатов) и цель (организация правовой реальности). Для того чтобы смыслообразующая функция обрела самостоятельное значение в контексте коммуникативной теории права, предлагаем в качестве ее объекта определить правосознание. Как отмечает А. В. Поляков, «человеческое сознание всегда опосредует правовую реальность. Только через свое когнитивное осмы- сление и ценностную интерпретацию правовые тексты получают правовую легитимацию и трансформируются в нормативные установления, способные воздействовать на волю и соответственно на поведение субъектов, определяя его как правовое»18. Правовая доктрина при помощи смыслообразующей функции воздействует на правосознание субъекта коммуникации, чем обуславливает переживаемые им процессы интерпретации и легитимации правовых установлений. Отсюда, помимо прочего, следует вывод о двойственной природе доктрины в контексте коммуникативной теории — и как правового текста, и как средства легитимации (двух разных компонентов правовой системы).
Прескриптивную функцию, полагаем, также следует уточнить с учетом анализа ее структуры в контексте коммуникативной теории права. Во-первых, Н. В. Разуваев ведет речь о пробелах в позитивном праве, которые восполняет доктрина. В таком прочтении не совсем ясен объект данной функции, особенно если учесть, что результатом должно стать «замещение» того же позитивного права. Поэтому необходимо понять, что в принципе является объектом правового регулирования — с тем, чтобы определить корректный объект для рассматриваемой функции. А. В. Поляков указывает, что предметом правового регулирования выступают общественные отношения, но непосредственное воздействие оказывается на поведение субъектов19. Таким образом, объектом данной функции, по нашему мнению, будет именно поведение субъектов.
Теперь аналогичным образом рассмотрим функции правовой доктрины, предложенные А. М. Михайловым20, и сравним их с теми, которые разработал Н. В. Разуваев. Обращает на себя внимание казуистичный, лишенный абстрактного начала характер двух выявленных А. М. Михайловым функций — «обеспечение конкурентоспособности и распространения влияния правовой системы» и «противостояние кризису западной традиции права». Они, как представляется, в большей степени привязаны к конкретному историческому периоду, нежели к доктрине как таковой. К тому же сомнительным представляется «доминирование» Jus commune после XVII–XVIII вв., когда практически повсеместно было ограничено цитирование римского права, место которого заняло разросшееся позитивное законодательство национальных государств. Помимо вышеописанных функций, А. М. Михайлов вывел следующие: 1) «оптимизация юридической практики, формирование и обеспечение качества иных источников права», 2) «обеспечение автономии и внутренней интеграции права», 3) «нормирование юридического мышления».
Раскрывая содержание деятельности в рамках первой функции, А. М. Михайлов указывает на процессы, присущие различным функциям, выделенным Н. В. Разуваевым, — вполне ясно, что как селективная, так и смыслообразующая функции (и не только они, поскольку язык, догматика — это инструменты деятельности доктрины в целом) воплощаются посредством оперирования юридическим языком, понятиями норм и институтов, приемами толкования права и т. д. Юридическая практика как объект и оптимизация практики как цель функции представляются нам частными случаями выделенных нами объектов и целей функций, предложенных Н. В. Разуваевым.
Переходя ко второй функции в трактовке А. М. Михайлова, следует отметить, что как интеграция, так и автономия права являются неотъемлемыми частями общей цели конститутивной функции (по версии Н. В. Разуваева), поскольку составляют общий вектор, направленный на организацию и трансформацию правовой реальности: достижение этих целей невозможно как без утверждения обособленного значения права, так и без выстраивания системно-структурных связей между различными элементами правовой реальности.
Наконец, функция нормирования юридического мышления, исходя из своей структуры, также полностью может быть включена в описанную Н. В. Разуваевым (с учетом нашего уточнения в объекте) смыслообразующую функцию: юридическое мышление, или «сознание юристов», — это всего лишь часть общего правосознания (объект); содержание деятельности, отраженное в этой функции, может быть выражено и как «смысловое наполнение феноменов правовой реальности»; преследуемая цель также включается в общую направленность смыслообразующей функции, то есть оптимизацию и опосредование процессов интерпретации и легитимации правовых текстов субъектом (которым, очевидно, может выступать не только профессиональный юрист).
В результате анализа и сравнения структуры функций правовой доктрины, предложенных Н. В. Разуваевым и А. М. Михайловым, мы выявили и попытались устранить путем уточнения логические недостатки в содержании структурных элементов функций — объекте, деятельности, цели. Обобщая две авторские концепции, получаем в итоге четыре функции правовой доктрины в контексте постнеклассической парадигмы: смыслообразующая, прескриптивная, селективная и конститутивная. Именно в таком виде функции доктрины охватывают все основные компоненты социальной реальности (системы социальной коммуникации) — сознание субъектов (смыслообразующая), их поведение (прескриптивная) и факты (селективная), а конститутивная функция, объединяя их, организует и развивает модель правовой системы (реальности).
Для наглядности продемонстрируем действие уточненных нами функций правовой доктрины на примере из истории права — средневековой доктрины Jus commune .
Нередко у средневековых судей возникала проблема отсутствия необходимых для разрешения дела правил в современном для них позитивном праве. В таких ситуациях помощь оказывали ученые-юристы из университетов, составлявшие экспертные заключения (consilia) , которые содержали предложения правоведов по надлежащему решению спора. Практика предоставления подобных заключений была распространена, в частности, во многих итальянских городах-коммунах21, которые прописывали в своих статутах порядок запроса судьями или самими тяжущимися consilia у юристов при университетах. Одним из актов, подразумевавших необходимость в определенных случаях обращаться к ученым-юристам, стали «Мельфийские конституции» 1231 г. императора Фридриха II (Liber Augustalis) , изданные им для Сицилийского королевства, входившего на тот момент в состав Священной Римской империи. В титуле LXII, содержащем описание клятв, приносимых королевскими судьями, имеется следующий фрагмент: «Кроме того, они должны дать клятву, что будут судить согласно нашим конституциям, а в их недостатках — согласно утвержденным обычаям и, наконец, согласно общим законам, ломбардским и римским, как того потребуют тяжущиеся»22. Университетские правоведы в этих ситуациях привлекались для того, чтобы дать разъяснение казуса с точки зрения римского права, которое, впрочем, было в значительной степени переработано усилиями многих поколений схоластов — глоссаторов и коммен-таторов23. Это привело к появлению самостоятельной правовой доктрины (Jus commune) — корпуса текстов, а также самих ученых (носителей доктринального знания), обладавших серьезным авторитетом в средневековом обществе.
Каким же образом в практике предоставления consilia проявляются функции правовой доктрины?
Селективная функция . Советуя по не урегулированному позитивным правом случаю, правоведы проводят границу между правом и неправом, указывают на релевантные для разрешения спора факты, осуществляют юридическую квалификацию (так, в 1354 г. суд венецианского дожа, следуя сформулированной юристами позиции, указал: «…преступление отличают воля и трезвый расчет»24).
Смыслообразующая функция . Воздействует на правосознание субъектов (например, стороны спора и судью), сообщая им смысл тех или иных юридических фактов, ситуаций, правил и т. д.; consilia авторитетно указывают, какие тексты подлежат легитимации (например, в деле, последовавшем за провалом заговора Пацци против Лоренцо Медичи, юристы указали, что папа римский посягнул на нормы, выводимые из естественного права25).
Прескриптивная функция. В отсутствие тех или иных установлений в позитивном праве доктрина в форме consilia способна предоставить соответствующее правило (в одном из дел, находившемся на рассмотрении главы (podesta) Пармы, ученый-юрист, руководствуясь принципом точности доказательств, рассудил, что если не ясно, кто из нападавших нанес смертельный удар, то все нападавшие могут быть только оштрафованы, но ни один не казнен26).
Конститутивная функция. В своих советах ученые выводят правило, следующее из логики сконструированной ими правовой системы, и тем самым способствуют организации и развитию этой самой системы.
Переходя к описанию сущности функциональной модели доктринального фактора правовой коммуникации, отметим, что, по нашему мнению, функции правовой доктрины не действуют все одновременно. По отношению друг к другу они образуют кумулятивный (нарастающий) эффект, который в конечном счете отражается и на самой доктрине. Схематично это можно представить следующим образом. Доктринальные тексты имеют в качестве объекта функционального воздействия, прежде всего, правосознание (условно разделяемое в рамках соответствующей правовой системы) — именно на него будет воздействовать смыслообразующая функция, определяя процессы легитимации и интерпретации субъектов. Далее прескриптивная функция через установление правил поведения влияет на поведение субъектов коммуникации. При этом авторы доктринальных текстов также рефлексируют относительно многочисленных социальных фактов и того, какие из них должны обладать релевантностью для права, — так проявляется селективная функция, которая выделяет такие факты, а конститутивная функция организует их на основе методов научного познания, создавая тем самым модель правовой реальности. Несомненно, что данная модель, в свою очередь, становится сама по себе объектом исследования для доктрины — объектом, необходимым для беспрерывной трансформации правовой реальности.
Выводы
На основе применения понятийного аппарата и основных положений коммуникативной теории права А. В. Полякова, функционального и системно-структурного подхода к осмыслению права, а также благодаря анализу научных позиций отечественных авторов по проблеме доктрины и ее функций, мы получили структуру функций доктрины, которую составляют такие компоненты, как субъект, объект, деятельность и цель. Приложение данной теоретической конструкции к идеям Н. В. Разуваева и А. М. Михайлова позволило сравнить те перечни (составы) функций доктрины, которые они предлагают, и в конечном счете получить новый, несколько скорректированный состав, учитывающий необходимость более четкого (с логической точки зрения) разграничения отдельных функций. Уточненный состав функций, по нашему мнению, должен выглядеть так:
-
• селективная функция (отбор юридически значимых фактов из общей массы социальных фактов);
-
• смыслообразующая функция (воздействие на процессы интерпретации и легитимации);
-
• прескриптивная функция (установление доктриной правила поведения);
-
• конститутивная функция (конструирование и развитие доктриной представлений о правовой системе).
Предпринята попытка описать функциональную модель доктринального фактора правовой коммуникации, главные особенности которой:
-
• не одновременное, а нарастающее (кумулятивное) действие функций;
-
• связанность трех уровней объективации фактора — текстуального (то есть доктрины как правового текста), психологического (порожденные текстом процессы интерпретации и легитимации, происходящие в правосознании) и праксиологического (поведение субъектов права как результат когнитивных процессов в правосознании). Это, в свою очередь, подтверждает идею А. В. Полякова о трех аспектах социальной коммуникации27;
-
• циклический, возобновляемый характер (в результате воздействия доктрины на коммуникацию уже сама доктрина впоследствии испытывает воздействие от изменившейся правовой системы). Представляется, что на основе полученных в ходе нашего исследования результатов возможно логически вывести и функции иных правовых текстов в правовой коммуникации (для построения в том числе аналогичных функциональных моделей). Указанная задача не стояла в данном исследовании, но ее значимость вряд ли может быть преувеличена, в связи с чем перспективы дальнейших разработок по этой теме более чем осязаемы.
Практическая же значимость изложенных выводов заключается в возможности их инструментального применения субъектами правовой коммуникации (в том числе законодателями и правоприменителями) для целей эффективного конструирования правовой реальности — понимание системно-функционального действия доктрины в правовой коммуникации, и в особенности структуры каждой из функций, потенциально позволит разработать соответствующие постнеклассической парадигме и адекватные поставленным задачам меры по совершенствованию правового регулирования.