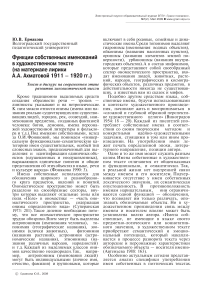Функции собственных именований в художественном тексте (на материале лирики А.А. Ахматовой 1911 - 1920 гг.)
Автор: Ермакова Юлия Викторовна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Текст и дискурс на современном этапе развития лингвистической мысли
Статья в выпуске: 1 (2), 2009 года.
Бесплатный доступ
Рассматривается индивидуально-авторская специфика использования собственных именований А. Ахматовой. Выявляются основные функции онимов в стихотворениях, образующих раннюю лирику поэтессы. Анализируются топонимы, в особую линию выделены топонимы линии Петербурга, онимы сакрального характера, антропонимы.
Собственные именования, онимы, топонимы, онимы сакрального характера, антропонимы
Короткий адрес: https://sciup.org/14821406
IDR: 14821406
Текст научной статьи Функции собственных именований в художественном тексте (на материале лирики А.А. Ахматовой 1911 - 1920 гг.)
Кроме традиционно выделяемых средств создания образности речи — тропов — лингвисты указывают и на нетропеические. К ним можно отнести онимы (имена или названия реально существующих или существовавших людей, городов, рек, созвездий, наименования предметов, созданных фантазией человека: богов, демонов, имена персонажей художественной литературы и фольклора и т.д.).Под именами собственными, вслед за О.И. Фоняковой, мы понимаем «универсальную функционально-семантическую категорию имен существительных, особый тип словесных знаков, предназначенный для выделения и идентификации единичных объектов (одушевленных и неодушевленных), выражающих единичные понятия и общие представления об этих объектах в языке, речи и культуре народа» (Фонякова 1990: 3).
Имена собственные используются для обозначения широкого и разнообразного круга предметов, явлений и понятий. Ономастическое пространство может быть разделено на своеобразные секторы, внутри которых выделяют отдельные зоны или поля. «Поле» в ономастике — «часть ономастического пространства, содержащая онимы определенного вида» (Суперанская 1973: 281). Такое деление необходимо потому, что все ономастическое пространство трудно обозримо. Внем могут быть выделены антропонимия (именования человека), топонимия (географические названия), зоо-нимия (клички животных), фитонимия (названия растений), астронимия (астрономические названия), этнонимика (названия различных народов, народностей) и т.д. Каждый из выделяемых классов они-мов качественно неоднороден. Так, например, антропонимы (именования людей) могут быть индивидуальными (личное имя, отчество, фамилия) и групповыми, которые включают в себя родовые, семейные и династические имена.Среди топонимов выделяют гидронимы (именования водных объектов), ойконимы (названия населенных пунктов), оронимы (названия элементов земной поверхности), урбанонимы (названия внутригородских объектов). А в состав мифонимов, которые представляют собой своеобразный сектор ономастического пространства, входят именования людей, животных, растений, народов, географических и космографических объектов, различных предметов, в действительности никогда не существовавших, а известных нам из сказок и мифов.
Подобно другим средствам языка, собственные имена, будучи использованными в контексте художественного произведения, начинают жить и восприниматься в «сложной и глубокой образной перспективе художественного целого» (Виноградов 1954: 18 — 20). Каждый из писателей употребляет собственные имена в соответствии со своим творческим методом и конкретными идейно-художественными задачами, стоящими в том или ином произведении. На употреблении имен лежит печать определенной эпохи, литературного направления, позиции автора.
Одно и то же имя может служить разным целям. Имена собственные в художественном тексте отличаются от общеязыковых и функционально, и семантически. Так, в реальной жизни нет внутренней связи между именем и его носителем. Подчеркивается отсутствие у имен собственных лексического значения, их семантическая опустошенность. В противоположность именам нарицательным, они ограничиваются одной функцией — обозначения, что позволяет им только различать, опознавать обозначаемые объекты. Но в художественном произведении связь между именем и носителем вполне может быть установлена волею автора. «Имена собственные, не имеющие в языке своего предметно-логического или коннотативного значения, в художественном тексте приобретают семантический и эмоциональный потенциал, который накапливается в процессе разворота текста через авторские и персонажные характеристики обозначаемого объекта — носителя имени» (Автеньева 1988: 163).
Особенно актуальным сегодня представляется анализ специфики употребления имен собственных в поэтических текстах.
В то же время имя собственное, становясь материалом поэзии, играет особую роль — становится точкой отсчета .... при актуализации гармонии поэтического текста» (Жогина 1997: 2). Кроме того, стремление писателя максимально использовать возможности имен собственных в поэтическом тексте приводит к тому, что они становятся одним из важнейших средств для создания ярких, неожиданных образов, что определяет их основную функцию – изобразительную.
А. А. Ахматова в лирических произведениях отводит особое место ономастической лексике. Стремление поэта максимально использовать возможности имен собственных в поэтическом тексте приводит к тому, что они становятся одним из важнейших средств, служащих для создания ярких образов, но при этом совершенно органично вливаются в смысловую организованность стихотворения. Следует отметить, что в ранней лирике А.А. Ахматовой (в период с 1911-го по 1920 г.) читатели встречаются с топонимами, антропонимами и онимами, которые можно отнести к религиозной тематике.
Современники А. А. Ахматовой всегда говорили о том, что она не любила, когда лирическую героиню отождествляли с самой поэтессой. Но, читая ахматовскую лирику, нельзя не почувствовать того, что лирической героине дорого все то, что было дорого автору поэтических строк. Лирическая героиня, подобно Ахматовой, влюблена в Царское Село, Петербург, Ниццу, Летний сад, Россию. Топонимы в стихотворениях А. Ахматовой неразрывно связаны с биографией поэтессы, именно поэтому и появляется у данных слов-онимов авторская коннотация.
Группа собственных имен представлена достаточно широко. В стихотворениях встречаются топонимы родной земли и топонимы, отсылающие к другим национально-культурным особенностям. Первая группа в поэзии отражена наиболее широко. Так, в стихотворениях часто встречаются урбанонимы Летний сад, Исаакиевский собор, Галерная, Третий Зачатьевский; ойконимы Петербург, Царское Село, Бежецк, Москва, Петроград; гидронимы Москва-река, Нева.В особую группу можно объединить все относящиеся к линии Петербурга. Н.С. Гумилев говорил о поэзии А. Ахматовой: « Она почти никогда не объясняет, она показывает» (Гумилев 2007: 350). Действительно, используя в стихотворениях названия переулков, мест отдыха, культурно-исторических объектов Петербурга, неоднократно упоминая имя самого города, поэтесса достигает эффекта рисования картины города. При этом использование самого онима Петербург опирается на широкую традицию употребления, аккумулируются ассоциативные связи с другими авторами и их произведениями, что позволяет говорить о культурной преемственности данной тематики. Слово Петербург становится неким символом, мотивированным в культурном и историческом плане.
Помимо урбанонимов к линии Петербурга можно отнести и гидроним Нева . Поэтесса однозначно указывает на то, что Нева — это символ как жизни, так и смерти, но для лирической героини невская вода — живительная.
Проанализируем два отрывка:
В последний раз мы встретились тогда На набережной, где всегда встречались.
Была в Неве высокая вода,
И наводненья в городе боялись.
(В последний раз мы встретились тогда...)
Переулочек, переул
Горло петелькой затянул.
Тянет свежесть Москвы-реки .
В окнах теплятся огоньки.
<... > Мне бы снова мой черный платок, Мне бы невской воды глоток.
(Третий Зачатьевский)
Если первый фрагмент стихотворения дает представления о Неве как о стихии, реке, которая славится тем, что выходит из своих берегов, и эта информация обусловлена историческими фактами, то второй фрагмент — это субъективное представление, обусловленное личной привязанностью лирической героини к Петербургу и Неве как одному из символов этого города. Указание на то, что именно Петербург дорог героине, присутствует в контекстуальном противопоставлении символов Москвы и Петербурга — Москвы-реки и Невы, эту же функцию выполняет и метафора «Переулочек, переул Горло петелькой затянул». Героине тесно в Москве, душно, а Петербург с невской водой — дают силы жить.
С темой Петербурга неразрывно связано использование антропонима Петр:
Ты свободен, я свободна,
Завтра лучше, чем вчера, —
Над Невою темноводной,
Под улыбкою холодной
Императора Петра.
(Стихи о Петербурге)
Группу антропонимов составляют как имена современников А.А. Ахматовой, так и исторических личностей, художественных персонажей. Помимо Петра Великого возникают образы князя Владимира, Михаила Архистратига, Парни, Гамлета. Использование имен исторических личностей прошлых эпох позволяет поэтессе создать особую культурно-историческую атмосферу:
Древний город словно вымер,
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял черный крест.
(Древний город словно вымер)
Использование реалий прошлой эпохи, наряду с присутствием в ней образа лирической героини позволяет соотнести события прошедшие с современными, дать им индивидуальную оценку. Использование онимов, отсылающих читателя к определенному периоду российской истории, обусловлено их способностью аккумулировать великий смысловой потенциал.
К особенностям лирики А. Ахматовой можно отнести упоминание имен поэтов, писателей с целью соотнести текст произведения не столько с их личностью, сколько с творчеством. Так, поэтесса обращается к именам А. Блока, Н. Гумилева, И. Анненского. Рассмотрим стихотворение «Подражание И.Ф. Анненскому».
И с тобой, моей первой причудой,
Я простился. Восток голубел.
Просто молвила: «Я не забуду».
Я не сразу поверил тебе.
Возникают, стираются лица,
Мил сегодня, а завтра далек.
Отчего же на этой странице
Я когда-то загнул уголок?
И всегда открывается книга
В том же месте. И странно тогда:
Вс¸ как будто с последнего мига
Не прошли безвозвратно года.
О, сказавший, что сердце из камня, Знал наверно: оно из огня...
Никогда не пойму, ты близка мне Или только любила меня.
Прежде всего следует отметить, что имя И.Ф. Анненского помещено в заглавии, но в самом тексте нет упоминания о поэте. Заглавие — один из ключей к пониманию произведения, в данном случае читатель убеждается, что не личность Анненского интересует Ахматову, а его стилистическая манера. Поэтесса обращает внимание на все тонкости его художественного мастерства, даже повествование ведется от мужского лица. Но при этом, если читатель не знаком с творчеством поэта, его стилем, манерой письма, не знает факты биографии Ахматовой (Анненский был ее учителем), то стихотворение теряет тот глубокий смысл, который первоначально был в него заложен. «И всегда открывается книга/ В том же месте..» — реминисценция из стихотворения Анненского «Тоска припоминания», «О, сказавший, что сердце из камня, / Знал наверно: оно из огня...» — реминисценция из стихотворения «Я думал, что сердце из камня». Если не принимать это во внимание, текст утрачивает первоначально заданную красоту и ценность, теряются ассоциативные связи с творчеством поэта Серебряного века.
Доказывать, что А. А. Ахматова была христианским поэтом, не приходится. Многие ее стихотворения сходны с жанром молитвы, часто присутствуют пророческие обличения, библейские цитаты и реминисценции.Безусловно, религиозность Ахматовой была и поэтизирующей, преображающей мир. Религия расширяет сферу красоты, включая красоту чувства, святости, церковного благолепия. На религиозность поэтессы и ее лирической героини указывает весьма частое использование онимов сакрального характера: Крещение, Богородица, Магдалина, Библия, Пасха, Давид, Рождество, Благовещенье, Христос .
Лирическая героиня заявляет о себе как о человеке, обращенном к Богу. Взывание к Христу, Богородице, вступление с ними в диалог создают иллюзию близости говорящего и адресата, что расширяет масштабы поэтического сознания и смыслового пространства лирического произведения:
Столько просьб у любимой всегда!
У разлюбленной просьб не бывает.
Как я рада, что нынче вода
Под бесцветным ледком замирает.
И я стану — Христос , помоги!—
На покров этот, светлый и ломкий,
А ты письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки < ...>
Часто присутствие онимов сакрального характера сопряжено с особенностями жанра. Как уже упоминалось выше, это может быть стихотворение-молитва, стихотворение-пророчество, где библейские мотивы тесно переплетаются с событиями действительности:
Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели,
И осина уже не дрожит.
Стало солнце немилостью Божьей,
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:
«Сроки страшные близятся. Скоро
Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил.
Только нашей земли не разделит
На потеху себе супостат:
Богородица белый расстелет
Над скорбями великими плат».
(Июль 1914)
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что онимы в текстах А. А. Ахматовой, безусловно, выполняют важную художественно-изобразительную функцию, часто задавая тональность про-изведений.Среди названных онимов особый интерес представляют собственные именования линии Петербурга и относящиеся к сакральной лексике.
Список литературы Функции собственных именований в художественном тексте (на материале лирики А.А. Ахматовой 1911 - 1920 гг.)
- Автеньева Л. А. Корреляция предметно-логического и назывного значения антономазии в оригинале и переводе/Л. А. Автеньева//Актуальные вопросы русской ономастики. Киев, 1988. С. 69-77.
- Бакастова Г. В. Имя собственное в художественном тексте/Г. В. Бакас-това//Русская ономастика. М.: Наука, 1984. С. 129-146.
- Виноградов В. В. Язык художествен-ного произведения/В. В. Виноградов//Вопр. языкознания. 1954. № 5. С. 3-27.
- Гумилев Н. С.//А. А. Ахматова. Стихотворения. Поэмы/Н.С.Гумилев. М.: Дрофа, 2007. С. 349-352.
- Добин Е. С. Поэзия А. Ахматовой/Е. С. Добин. Л.: Наука, 1968. 249 с.
- Жирмунский В. М. Творчество А. Ахматовой/В. М. Жирмунский. Л.: Наука, (Ленингр. отд-ние), 1973. 184 с.
- Жогина К. Б. Поэзия собственных имен (некоторые особенности лирики М. И. Цветаевой)/К. Б. Жогина//Ана-лиз художественного текста на школьном уроке: теория и практика: сб. науч.-метод. тр. Ставрополь: Изд-во СГПУ, 1995. Вып.1. С. 45-60.
- Суперанская А. В. Общая теория имени собственного/А. В. Суперанская. М.: Наука, 1973.
- Фонякова О. И. Имя собственное в художественном тексте/О. И. Фонякова. Л., 1990.