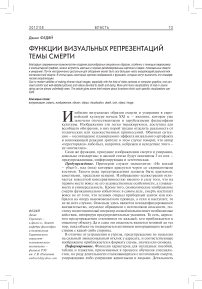Функции визуальных репрезентаций темы смерти
Автор: Федяй Денис Сергеевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 8, 2012 года.
Бесплатный доступ
Благодаря современным возможностям создания разнообразных визуальных образов, особенно с помощью видеокамер и компьютерной графики, можно встретить цветные и хорошо детализированные картинки и видео, посвященные смерти и умиранию. Почти неограниченно доступным для обозрения может быть все большее число визуализаций реальной или постановочной смерти. В статье даны некоторые краткие соображения о функциях, которые могут выполнять эти специфические визуализации.
Визуализация, смерть, изображение, объект, образ
Короткий адрес: https://sciup.org/170166541
IDR: 170166541
Текст научной статьи Функции визуальных репрезентаций темы смерти
Сами же функции, присущие изображениям смерти и умирания, довольно стандартны; в данной статье будут освещены 3 из них — предупреждающая, информирующая и эстетическая.
ФЕДЯЙ Денис
Предупреждение. Примером служит знаменитое: «Не влезай — убьет!», над (под) которым красуется череп со скрещенными костями. Такого рода предупреждения должны быть краткими, заметными, предельно ясными. Изображение иллюстрация отли чается известной консервативностью именно в силу того, что на первом месте вовсе не его художественные особенности, а узнавае мость и универсальность. Кроме того, символическое изображение смерти функционально избыточно: в самом деле, смерть наступает вовсе не от того, что человек открыл приборный щиток или взо брался на опору высоковольтного провода, а если и наступает, то не во всех случаях. Опасным здесь является неквалифицированное вмешательство, неумелое обращение с источником опасности, по -этому подготовленный оператор спокойно выполняет необходимые действия, игнорируя предупредительные указания. То есть, адреса том предупреждения становится не каждый, кто приближается к опасному объекту. Да и сама эта опасность является мнимой до тех пор, пока объект не подвергается активным возмущающим воздей ствиям с какой либо стороны.
В отличие от устрашения и угрозы, предупреждение не нацелено на сильный эмоциональный отклик у адресата, и соответствующее изображение приближается к формату схемы, значка или символа.
Информирование. Функция характерна для наглядных пособий, таблиц и плакатов, применяемых в процессе обучения специали стов, по роду деятельности сталкивающихся с источником смерти, умирающими либо умершими животными и людьми. Детальность изображения желательна, но, в отличие от болезненной детальности сенсационных/ шокирующих журналистских новостных статей, не для потрясения зрителя, а для достоверности и собственно информативности. Изображения в идеале должны быть документальными по своему происхождению: это не рисунки, коллажи или условные обозначения, а фотографии реальных объектов и событий. Такая продукция обычно хранится в довольно строгих условиях и, по умолчанию, предназначена для служебного пользования.
Не секрет, что погоня именно за подлинными видеозаписями или фотографиями, где изображается мертвое тело или сам процесс умирания (убийства), за последние годы характерна не только для военных преступников1 или специализирующихся на «шоковых» новостях журналистов, но и для праздной молодежи, которая находит в просматривании этих изображений волнующее, но, в целом, «забавное» развлечение. Технические возможности в последнем случае более чем достаточны, т.к. у многих школьников и студентов имеются сотовые телефоны с функцией фотосъемки и видеозаписи, а также с опцией обмена файлами с персональным компьютером. В сети Интернет в свободном доступе находятся сотни фотографий и видеозаписей, изображающих самоубийство, насильственную смерть, несчастные случаи со смертельным исходом. Изображающих, но не всегда соответствующих фактическому положению дел. Проще говоря, техническое совершенство монтажа позволяет безоговорочно удалить грань между реально погибающим в кадре человеком и грамотной сценической постановкой смерти. А благодаря присоединению к изображениям самых различных текстовых или голосовых комментариев, фактически форми- руется особое коммуникационное пространство, в котором пользователи удовлетворяют не вполне здоровый интерес к рассматриванию мертвого. На наш взгляд, если будет зафиксировано преобладание детско-подросткового контингента как среди участников изображаемых событий, так и среди пользователей обозначенного коммуникационного пространства, это должно настораживать. Все же документальные изображения, в отношении которых по каким-либо причинам нарушены правила хранения, распространения или использования, вместо изначально задуманной информационной функции выполняют иные, порождая угрозу микро-социальной нестабильности.
В самих же материалах смерть как происшедшее событие не всегда представлена как основной смысловой элемент изображения, но часто служит скорее фоном, на котором выделяются обстоятельства, факторы, предметы, собственно и составляющие содержание передаваемой информации. Особенно спорным обычно становится условный критерий «избыточной детальности». Если изображение рассматривает тот, кому оно и адресовано, то он в силах самостоятельно определить, какая информация ему нужна, а какая избыточна – но лишь с тем, чтобы полнее сосредоточиться на основной. Напротив, принудительно выведенные за пределы их непосредственной (аутентичной) сферы использования, эти изображения становятся провокацией, предметом раздоров и споров: «Ну можно ли показывать такие ужасы!?». Дело в том, что с точки зрения адекватно реализующейся информационной функции показывать это не только можно, но и нужно, ибо от этого зависят здоровье и жизнь многих людей, с которыми подготовленный таким образом субъект станет прямо или косвенно иметь дело впоследствии.
Эстетика. Снятие множественных табу с темы смерти на рубеже предыдущего и наступившего веков породило множество художественных произведений, в которых прямо или косвенно задействован трупный материал, обработанный до неузнаваемости или же практически нетронутый. Следует помнить, что речь идет не о патологически измененном эстетическом чувстве некрофилов и маньяков. Жанр натюрморта известен в течение многих столетий, а ведь именно эти картины запечатлели для зрителя всевозможные виды мертвой природы. Решительно ни к чему подозре-вать любителей натюрморта или мастеров живописи соответствующего профиля в болезненном интересе к смерти. Но тогда чем же, по сути, любуется зритель, рассма-тривая натюрморты? Только лишь сим -метрией линий и гармонией красок, гра циозностью мазка кисти и комбинацией объектов? Последние выступают в двой -ном качестве — денотатов смерти и аген-тов прекрасного, если мы только оконча тельно решимся восхищаться картиной, где развешаны вниз головой туши убитых на охоте животных или покоится на разде лочной доске рыба. Отказ же от готовности воспринимать прекрасное в натюрмортах напоминает антропологическую эстети-ческую позицию Н.Г. Чернышевского: «...живому естественен страх смерти, отвращение от всего мертвого, отвраще ние ко всему, что пагубно для жизни...1; не хорош желтый цвет увядающих листьев — потому что он признак их увядания; не хорош поблекший белый или розовый цвет розы — потому что он цвет поблек -шей розы2». Рассуждая так, следует поста -вить красоту натюрмортов под серьезное сомнение: «Прекрасно то, что проявляет в себе жизнь или напоминает о жизни»3.
Впрочем, у Чернышевского жизнь отчет -ливо противопоставляется смерти и даже умиранию - он признает лишь полновес ную, мощную жизнь, наилучшей иллю страцией которой служат у него молодые и здоровые люди и животные.
Современное же искусство, похоже, тяготеет к намеренному отыскиванию в реальности и тщательному перенесению в выставочные залы и интернет галереи сцен и объектов, указывающих на гибель, смертельное отчаяние или одиночество, безысходность и безнадежность. Смерть при этом поэтизируется, символизиру ется, «кодируется» и «декодируется», а в общем итоге рождается особая эстетика смерти.
В заключение отметим, что каждая из перечисленных функций изображения смерти и умирания рассчитана на кон кретного адресата, реализуется в различ ной степени в зависимости от условий окружающей среды и контекста экспози ции, способна выполняться в комбина ции с прочими функциями. При работе с визуальным материалом соответствую щей тематики это необходимо учитывать, чтобы не впасть в заблуждение, делая неверные выводы и проходя мимо оче видных и соответствующих объективной действительности. Кроме того, если не регулирование доступа к подобным изо бражениям, то, по меньшей мере, отсле живание и оперативная оценка их высту пают как неотъемлемая часть культурной политики.