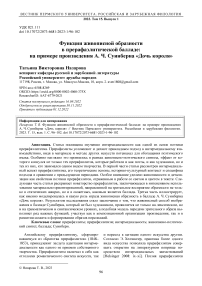Функции живописной образности в прерафаэлитической балладе: на примере произведения А. Ч. Суинберна «Дочь короля»
Автор: Назарова Татьяна Викторовна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 1 т.15, 2023 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению интермедиальности как одной из основ поэтики прерафаэлитизма. Прерафаэлиты усложняют и делают прикладным подход к интермедиальному взаимодействию, видя в материале и методе других искусств потенциал для обогащения поэтического языка. Особенно наглядно это проявилось в рамках живописно-поэтического синтеза, эффект от которого коснулся не только тех прерафаэлитов, которые работали и как поэты, и как художники, но и тех из них, кто занимался одним видом творчества. В первой части статьи рассмотрен интермедиальный аспект прерафаэлитизма, его теоретические основы, историко-культурный контекст и специфика подхода в сравнении с предыдущими периодами. Особое внимание уделено живописности и детализации как свойствам поэтики прерафаэлитов, отраженным в работе со светом и цветом в тексте. Следующая часть статьи раскрывает новаторство прерафаэлитов, заключающееся в интенсивном использовании материально-ориентированной, направленной на зрительное восприятие образности не только в статических жанрах, но и в сюжетных, каковым является баллада. Третья часть иллюстрирует, как именно моделировалась и какую роль играла живописная образность в балладе А. Ч. Суинберна «Дочь короля». Результатом исследования стало заключение о том, что живописный способ изображения в балладе Суинберна, который не был художником, проявляется не только на лексическом, но и на грамматическом и синтаксическом уровнях, а подобная модель передачи зрительного образа выполняет ряд важных функций, участвуя как в композиционной организации произведения, так и в развитии сюжета и формировании образов персонажей.
Прерафаэлиты, прерафаэлитизм, интермедиальность, живописно-поэтический синтез, баллада, суинберн
Короткий адрес: https://sciup.org/147240448
IDR: 147240448 | УДК: 821.111 | DOI: 10.17072/2073-6681-2023-1-96-102
Текст научной статьи Функции живописной образности в прерафаэлитической балладе: на примере произведения А. Ч. Суинберна «Дочь короля»
представляет собой один из наиболее характерных примеров «усложнения принципов организации художественного текста» посредством «заимствования и ассимиляции свойств текстов, принадлежащих другим видам искусства» [Седых 2008: 212].
Интермедиальной природе прерафаэлитизма посвящены труды Г. В. Аникина, Н. И. Соколовой, Э. В. Седых и Э. Хелзингер. Эта черта его поэтики также отмечена в работах Д. Рескина, У. Пейтера, В. В. Ванслова, Д. Н. Жаткина и др. Однако уникальность «кинематографического видения» [Borges 2013: 188] прерафаэлитов, способы реализации синтеза искусств в их поэзии и функции живописного отображения действительности остаются не до конца исследованными. Еще менее изученным является интермедиальный аспект в прерафаэлитическом творчестве А. Ч. Суинберна, поэзия которого, хотя он и не являлся художником, как Д. Г. Россетти или У. Моррис, также отличалась синтетической направленностью. Данное исследование призвано заполнить некоторые из существующих пробелов в отечественном литературоведении и продемонстрировать на примере произведения А. Ч. Суинберна «Дочь короля» (“King’s daughter”, 1866), что конкретная и живописная манера изображения прерафаэлитов функционировала даже в сюжетных жанрах, таких как баллада, и играла значительную роль в построении произведения.
Демонстрируя «органическое объединение равноправных искусств в едином образном решении и воздействии» [Ванслов 1987: 94], пре-рафаэлитизм, с одной стороны, стал отражением романтической модели синтеза искусств. Такое воплощение идеи вписывалось в рамки идеалистической концепции эстетической утопии У. Морриса: «…только синтез искусств даёт подлинную красоту, поскольку он содействует тому, что весь окружающий человека предметный мир становится <…> отпечатком его образа жизни и утверждением его идеала» [там же: 91]. Тогда как происходивший в буржуазную эпоху распад синтеза искусств он связывал с общим культурным упадком. С другой стороны, в живописи и поэзии прерафаэлитов наблюдается переход к цитации культурного кода одного искусства средствами другого, которое затем разовьют в своем творчестве О. Уайльд и модернисты. Ин-терсемиотичность1 произведений разных семиотических систем при этом достигалась как путем вербализации, так и путем визуализации.
Произведения прерафаэлитов можно назвать примерами интермедиального перевода, в котором учитывались не только сходные черты разных видов искусств, но и то, что делает «ориги- нал» чуждым традиции, в которую он вносится. В чужеродности и странности прерафаэлиты видели потенциал для обогащения поэтического языка. Некоторые из прерафаэлитов были непосредственно знакомы с процессом создания произведений разных видов искусства, переводя на язык другого медиума не только отдельные приемы, но и метод, форму и чувственное восприятие.
Ярче всего в прерафаэлитизме был выражен художественно-поэтический синтез. Широкому зрителю известны прежде всего прерафаэлиты-художники, но ставить их поэтическое творчество в услужение живописному было бы в корне неверно. Их тождество утверждается прежде всего совпадением целей прерафаэлитизма в визуальной и литературной формах, а в объединении живописи и поэзии состояла одна из главных задач прерафаэлитизма [Соколова 1995: 97]. Часть исследователей предлагает рассмотрение этого аспекта посредством понятия «поэзиса как акта творения» [Huseby, Witcher 2020: 19] и «смыслообразующего полагания» [Сурина 2008: 67], которое ассоциируется с искусством в целом и представляет собой «модель фундаментального синтеза культуры» [там же: 70].
Критерием сопоставления живописи и поэзии Д. Рескин называл присущий обоим ритм, который был не формальной категорией, но «проявлением чувствительности к цвету и очертаниям предметов», возникающим из «бесконечной и священной любви к миру и правде, как средству выражения гармонии цвета и гармонии звука» [Соколова 1995: 102]. В «Современных художниках» теоретик обрисовывает «структурные единицы, свойственные разным видам искусств: звук, цвет, линию» [Аникин 1986: 123]. Градацией и модуляцией подобных соотносимых между собой элементов может производиться эмоциональный эффект. Еще одним доказательством родства поэзии и живописи, по Рескину, было взаимодействие через стихотворные цитаты к картинам, иллюстрации к литературным произведениям и экфратические стихотворения.
Размышляя о поэзии в целом, можно говорить о том, что направленность на зрительную модальность является свойством большинства ее образцов. А. В. Нагорная объясняет это «общей визуальной ориентированностью западной культуры», которая позволяет даже «увидеть невидимое» [Нагорная 2015: 83]. Однако живописность, доходящая до интермедиального синтеза, становится одним из определяющих свойств поэзии прерафаэлитов. Их поэзию отличает расширение поля неметафорической, конкретной лексики, обозначающей предметы и явления материального мира, свето- и цветообозначения, ви- зуально воспринимаемые характеристики пространства и стремление к формированию полноценного и детального зрительного образа даже в сюжетных жанрах.
Принцип верности детали занимает особое место в искусстве прерафаэлитов, проявившись и в живописи, и в поэзии. Во многом он происходил из провозглашенных в «Ростке» постулатов, а именно тех, что касались искренности идей и тщательного изучения природы. Даже Россетти, которого не раз упрекали в отступлении от верности природе, нежелании работать с натуры и даже бегстве от нее, чтобы «вернуться в Лондон к своей искусственной жизни» [Соколова 1995: 76], был очень пристрастен по отношению к детали в своей поэзии, как природной (даже если дело касалось шума ручья), так и исторической.
Пристальное внимание к детали объясняется и интермедиальной природой творчества прерафаэлитов, однако следует отметить, что подобные описания находятся также у А. Теннисона и М. Арнольда. К. Крайст находит этому еще одно объяснение, а именно через сдвиги в мировоззрении викторианцев, произошедшие после новых естественнонаучных открытий, и последовавший за ними кризис идей упорядоченности мироздания: «Общепринятые представления растворялись, не оставляя ничего, кроме трясины отдельных деталей» [цит. по: Соколова 1995: 155]. Пейзаж как таковой для прерафаэлитов не существует: «его заменяют элементы, “атомы”, становящиеся средством раскрытия душевного состояния личности» [там же]. У. Пейтер отмечал в искусстве прерафаэлитов возрождение традиций «мифопоэтического века». Россетти он сравнивал с Данте в способности придания чувственного, материального образа явлениям духа. Привычные вещи в поэзии прерафаэлитизма предстают «исполненными чувства» [там же: 155–156]. Детальность стала характерным свойством прерафаэлитского искусства, помогая художникам и поэтам выявлять земную природу сакральных явлений.
Ключевым аспектом передачи зрительного опыта является передача светотеневых нюансов и, в частности, работа с цветом. Цветовые впечатления ярче фиксируются в памяти и проще воспроизводятся из нее, поэтому использование цветовой и светотеневой игры в литературных произведениях эффективнее всего приводит читателя к преобразованию текста в визуальный образ. Поэзия прерафаэлитизма отличается изображением тонких различий игры света и тени (например, The scented dusty daylight burns the air [Swinburne 1866: 14] или The flickering shades were dusk and dun, / And the lights throbbed faint in unison [Rossetti 1886: 172]) и широким спектром используемых оттенков, включая вариации их тона и насыщенности (Fair green weed in the millwater [Swinburne 1866: 321] или And see the quiet gleam of turquoise pale / Along the ceinture [Morris 2007: 141]). При этом цветовое сопровождение может выступать не только одним из способов детализации экспозиции или образов, но и, к примеру, средством различия персонажей или иллюстрации смены событий сюжета.
Наряду с использованием в литературных произведениях эффектов цветового и светотеневого контраста, дополнявшихся высокой степенью проработки деталей, прерафаэлиты наделяли собственную живопись нарративностью и «субъективным чувством» [Жаткин 2018: 213], что позволило расширить возможности обоих видов искусств для достижения общей цели: усиления эмоционального воздействия на воспринимающего. Одним из характерных признаков «поэтической живописи» прерафаэлитов объявляют «их стремление к вычленению духовного в материальном» [там же: 212]. В лекции «Ренессанс английского искусства» (The English Renaissance of Art, 1882) О. Уайльд говорит о том, что прерафаэлиты устроили революцию в английском искусстве, стремясь создать произведения, обладающие одновременно большей духовной и декоративной ценностью [Wilde 1908: 249].
Поэзия прерафаэлитов выделяется тем, что материально-ориентированная, направленная на зрительное восприятие образность проявляется не только в более статических жанрах, таких как лирическая зарисовка, экфраза или сонет, но и в жанрах, предполагающих сюжетность и динамизм, например балладе.
В контексте викторианского увлечения арту-рианой жанр баллады также переживает возрождение – большее внимание уделяется исконным традициям и форме жанра: по сравнению с романтиками викторианские поэты используют более близкую народной балладе форму, что особенно справедливо для поэзии прерафаэлитов. Возрождение формальных признаков баллад было сродни возрождению средневекового мироощущения. Поэзия прерафаэлитов многое наследует у фольклорного варианта баллад, например: возвышенность слога, богатство красок, фрагментарность, частое отсутствие авторской оценки, рефрены и устойчивые эпитеты. При этом отмечается изменение функции рефрена, который становится связанным с содержанием не только на уровне музыкальных ассоциаций, но на уровне сюжета. В свою очередь традиционные эпитеты меняют свою функцию с типизирующей на индивидуализирующую.
Жанр соответствовал эстетическим соображениям прерафаэлитов как своей архаичностью, так и своей гибкостью, позволяющей им не только подражать старинным образцам, но и осуществлять в лоне балладных форм собственные языковые экзерсисы. Язык, к которому тяготеет баллада, поощрял как конкретную образность прерафаэлитов, так и их стремление к звуковой гармонии: «…язык баллад сильно отличается от той искусственной речи, которая была обычна в поэзии начала XVIII в. Баллады любят слова характерные, индивидуальные, точные, конкретные; они не знают вычурных метафор и риторических фигур, кроме устойчивых эпитетов, основанных на древней песенной традиции и превратившихся в словесные лейтмотивы; они употребляют охотно слова архаичные, диалектные формы, потому что их возникновение относится к давним годам, а место распространения – пограничные области Англии и Шотландии, где говорят на своеобразном северном наречии» [Жирмунский 1973: 99]. Подтверждая эту мысль, М. А. Козырева указывает на то, что «для баллады характерно присущее английскому сознанию стремление избежать излишней абстрактности, стремление выразить всё в конкретных образах, взятых из жизни. Даже эльфы, феи… воспринимаются как нечто очень конкретное, являются такими же реальными действующими лицами, как и другие персонажи» [Козырева 1988: 17].
Несмотря на то что главной чертой жанра является сюжетность и что балладным произведениям часто присущ определенный динамизм, даже в них стиль прерафаэлитов был направлен на создание визуального восприятия нарратива и тяготел к вещности и плотности деталей. Прерафаэлиты творчески переосмыслили традиции народной баллады в соответствии с собственными эстетическими критериями. Чертой баллад прерафаэлитов является очевидная конкретность и декоративность, проявляющиеся в подробных описаниях внешности, декора, пейзажа. Стоит отметить также, что по сравнению с предыдущими периодами лирике прерафаэлитизма свойственна мультимодальная направленность: в ней значительно чаще можно увидеть использование цветовых эпитетов, а также слов, обозначающих текстуры, материалы, звуки и иные сенсорные впечатления.
Одним из наиболее интересных примеров использования материальной детали для построения балладного произведения является баллада «Дочь короля» А. Ч. Суинберна. В первую очередь в ней привлекает внимание преобладание именных форм над глагольными, включая вспомогательные их формы. Четверостишие в этом произведении обыкновенно содержит 1–3 глагольных формы и 10–13 именных. Однако, несмотря на небольшое количество глаголов и ча- стые случаи опущения их вспомогательных форм, стихотворение Суинберна сохраняет основные балладные признаки: сюжетность, динамизм и неожиданную развязку.
Баллада начинается с пасторальной картины о жизни дочери короля и ее подруг. Десять дев предстают на фоне зеленых полей и маленьких красных листьев в потоке у водяной мельницы. Однако по ходу повествования пейзаж постепенно меняется: сначала на опавшие плоды, а затем на дождь, град, и наконец, разбитые лодки.
We were ten maidens in the green corn,
Small red leaves in the mill-water:
Fairer maidens never were born, Apples of gold for the king’s daughter.
[Swinburne 1866: 321]
Организующая направленность детальности распространяется на ряд аспектов художественного произведения. Она выполняет сюжетогенную и персонажную функцию, что особенно ярко проявляется в «Дочери короля». Сюжет баллады целиком раскрывается через художественную деталь – живописную картину потока, текущего у мельницы, меняющегося, чтобы показать смену состояния мира и в конечном счете трагические события через обломки, плывущие по воде.
He’s ta’en his leave at the goodliest,
Broken boats in the mill-water… [ibid.: 323]
Природа, в духе романтической традиции, играет значительную роль в отражении и развитии сюжетной линии, но не менее важными оказываются и предметы материального мира, созданные руками человека. Описание заглавного персонажа произведения происходит через сопоставление соответствующих ей и другим предметов. Почти всё, что читатель узнает о дочери короля, дается через подобные детали: красные кольца, хлеба, вышитые золотом рукава и др. Развитие образа на контрасте материальных вещей не только не снижает выразительность и драматизм произведения, но и делает их более наглядным. Таким образом, формирование образа героини происходит через связанные с ней и с другими предметы, тогда как сюжетные коллизии обозначаются у Суинберна сменой пейзажа. Баллада представляет собой ярко выраженный пример поэтического текста, в котором признаки «более существенны для создания поэтического образа, чем носители» [Ковтунова 1986: 163].
Полнота изображения усиливается за счет обильного использования цветовых эпитетов, которые задействованы в 10 из 14 четверостиший стихотворения (или же 12, если посчитать относительное прилагательное golden и обозна- чением цвета и допустить, что fair здесь может использоваться также в значении «белый, светлый»). Используемые поэтом оттенки чистые, незамутненные и иногда контрастирующие друг с другом (например, green corn – red leaves), что создает не только «чисто орнаментальную поверхностную насыщенность» [Peters 1962: 290], но и атмосферу сказочности, определенной условности, которая нивелирует сконцентрированное на материальных объектах повествование. Функциональная особенность цветовых обозначений, включая аналоговые, у Суинберна заключается в том, что они становятся частью рефрена, который в 10 четверостишиях из 14 включает в себя называние предназначенного для дочери короля объекта вместе с его цветом. В этом контексте любопытно и то, что яркость красок исчезает к концу поэмы, сигнализируя ее трагическое завершение.
И движение сюжета, и составление портрета основного персонажа в балладе создается преимущественно через подобные детали – конкретные зрительные образы, подталкивающие читателя к понимаю задумки поэта. Многочисленные детали органично сплетаются с разнообразными рефренами и повторениями, как бы гипнотизируя читателя и снижая его бдительность.
He’s ta’en out the goodliest,
Rain that rains in the mill-water;
A comb of yellow shell for all the rest
A comb of gold for the king’s daughter.
He’s made her bed to the goodliest,
Wind and hail in the mill-water;
A grass girdle for all the rest,
A girdle of arms for the king’s daughter.
[Swinburne 1866: 322–323]
Баллада дает минимум нарративной информации. Параллелизм природной детали наталкивает на мысли о трагическом конце, однако такая смена событий, как и в народных балладах, всё равно оказывается внезапной, не только за счет гибели жениха королевской дочери, но и за счет открытия шокирующей современного читателя детали их отношений. В предпоследней строке героиня называет своего погибшего жениха братом (And ye’ll streek my brother at the side of me [ibid.: 323]), что наводит на мысли о неслучайности его гибели, если этот факт ранее оставался для пары неизвестным. О том же может свидетельствовать фраза о предначертанности ей мук ада (The pains of hell for the king’s daughter [ibid.]). Однако полностью картина событий так и не проясняется, что соотносится со взглядами самого Суинберна, который в романе «Лесбия Брэндон» (“Lesbia Brandon”, 1868) вкладывает в уста леди Уористон следующие слова: «Все эти истории лучше оставлять недосказанными; так они больше страшат и лучше запоминаются» [цит. по: Helsinger 2016: 486].
Синтетический характер искусства прерафаэлитов явился одной из наиболее значимых отличительных черт их творчества. Выходя за рамки отдельных приемов, по сравнению с предыдущими периодами прерафаэлитизм усложняет и углубляет интермедиальное взаимодействие в тех видах искусства, в которых он представлен, что особенно наглядно видно на примере живописно-поэтического синтеза. Объединение поэзии и живописи стало одной из задач прерафа-элитизма, представители которого привнесли в литературу методы и концептуальные стратегии создания и восприятия визуальных искусств.
Поэзия прерафаэлитов выделяется даже на фоне общей ориентированности на зрительную модальность европейской литературы тем, какое значение в ней придается работе с цветом и верности детали. При этом высокая концентрация и степень проработки деталей, позволяющие читателю сформировать яркий зрительный образ при чтении поэзии, становятся характерны не только для более статичных жанров, но и для сюжетных, таких как баллада.
На примере баллады «Дочь короля» можно увидеть, что подобный способ изображения проявляется не только на лексическом, но и на грамматическом и синтаксическом уровнях. Используя преимущественно именные конструкции, Суинберн рисует картину, в которой временные и событийные изменения преимущественно иллюстрируются пейзажем и предметами материального мира. Р. Питерс подчеркивает, что вместе с Д. Г. Россетти Суинберн достигает в своей поэзии «неуловимое слияние орнамента со значением» [Peters 1962: 300]. Декоративноорнаментальная модель передачи зрительного восприятия выходит за рамки сугубо описательных возможностей и приобретает организующую функцию, а также играет значительную роль в формировании сюжета и образов персонажей.
Список литературы Функции живописной образности в прерафаэлитической балладе: на примере произведения А. Ч. Суинберна «Дочь короля»
- Аникин Г. В. Эстетика Джона Рёскина и английская литература XIX века. М.: Наука, 1986. 316 с.
- Ванслов В. В. Моррис об архитектуре и синтезе искусств // Аникст А. А., Ванслов В. В., Верижникова Т. Ф., Кучерова Е. Н., Лазарева Н. М., Макаров К. А., Некрасова Е. А., Шестаков В. П. Эстетика Морриса и современность. М.: Изобраз. искусство, 1987. С. 85-95.
- Жаткин Д. Н. Данте Габриэль Россетти в России // Россетти Д. Г. Дом Жизни: в 2 кн. / Изд. подгот. Вл. Некляев, Дм. Жаткин. М.: Ладомир, 2018. Т. 2. C. 102-228.
- Жирмунский В. М. Английская народная баллада // Английские и шотландские баллады. М.: Наука, 1973. С. 87-103.
- Ковтунова И. И. Поэтический синтаксис / Отв. ред. Н. Ю. Шведова; АН СССР, Ин-т рус. яз. М.: Наука, 1986. 205 с.
- Козырева М. А. Восприятие в русской литературе английской поэзии конца XIX - начала XX века: жанр литературной баллады: дис. ... канд. филол. наук. Казань, 1988. 219 с.
- Нагорная А. В. Образы зрительной и слуховой модальности в когнитивном пространстве интероцепции // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Серия: Гуманитарные и социальные науки. 2015. № 3. С. 81-88.
- Седых Э. В. К проблеме интермедиальности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Язык и литература. 2008. Вып. 3, ч. 2. С. 210-214.
- Соколова Н. И. Литературное творчество прерафаэлитов в контексте «средневекового возрождения» в викторианской Англии: дис. ... д-ра филол. наук. М., 1995. 533 с.
- Сурина Т. В. Поэзис как архетип культуры // Вестник Томского государственного университета. 2008. № 316. С. 67-70.
- Borges J. L. Professor Borges: A Course on English Literature. New York: New Directions Publishing, 2013.306 p.
- Helsinger E. K. Poetry and the Pre-Raphaelite Arts. Dante Gabriel Rossetti and William Morris. New Haven & London: Yale University Press, 2008. 335 p.
- Helsinger E. Taking Back the Ballad: Swinburne in the 1860s. Victorian Poetry. Vol. 54, No. 4, Ballads (WINTER 2016). P. 477-496.
- Huseby A. K., Witcher H. B. Introduction: Defining Pre-Raphaelite Poetrics. Defining Pre-Raphaelite Poetics / ed. by H. B. Witcher and A. K. Huseby. London: Palgrave Macmillan, 2020. P. 16-44.
- Morris W. The Defence of Guenevere and Other Poems. Salt Lake City: Project Gutenberg Literary Archive Foundation, 2007. 248 p.
- Peters R. L. Algernon Charles Swinburne and the Use of Integral Detail. Victorian Studies, Vol. 5, No. 4 (Jun., 1962). P. 289-302.
- Rossetti D. G. Poems by Dante Gabriel Rossetti. New York: Thomas Y. Crowell & Company, publishers, 1886. 349 p.
- Swinburne A. C. Poems and Ballads. London: J. C. Hotten, 1866. 344 p.
- Wilde O. The Complete Works of Oscar Wilde. Vol. 10, Miscellanies. Boston: The Wyman-Fogg Company, 1908. 344 p.