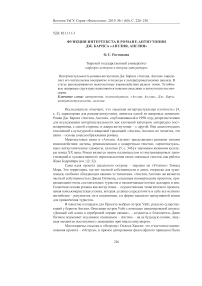Функция интертекста в романе-антиутопии Дж. Барнса "Англия, Англия"
Автор: Ратникова Ольга Сергеевна
Журнал: Вестник Тверского государственного университета. Серия: Филология @philology-tversu
Рубрика: Голоса молодых исследователей
Статья в выпуске: 1, 2019 года.
Бесплатный доступ
Интертекстуальность романа-антиутопии Дж. Барнса «Англия, Англия» определяет его читательское восприятие и подходы к литературоведческому анализу. В статье рассматриваются межтекстовые взаимодействия разных типов. Устойчивые жанровые структуры наполняются новыми смыслами в антиутопии постмодерна.
Антиутопия, постмодернизм, "англия, англия", дж. барнс, интертекстуальность, аллюзия
Короткий адрес: https://sciup.org/146281359
IDR: 146281359 | УДК: 821.111-3
Текст научной статьи Функция интертекста в романе-антиутопии Дж. Барнса "Англия, Англия"
Исследователи отмечают, что «высокая интертекстуальная плотность» [4, с. 4], характерная для романа-антиутопии, является одной из жанровых доминант. Роман Дж. Барнса «Англия, Англия», опубликованный в 1998 году, репрезентативен для исследования интертекстуальности как ключевой категории литературы постмодернизма, с одной стороны, и жанра антиутопии – с другой. Вне диалогических отношений с культурной и жанровой традицией «Англия, Англия» не читается, эти связи – основа смыслообразования романа.
Межтекстовые связи в «Англии, Англии» представлены разными типами взаимодействия: цитаты, реминисценции к конкретным текстам, «архитекстуаль-ные» антиутопические элементы, аллюзии [5, c. 346] к значимым явлениям культуры конца XX века. Роман является неким палимпсестом из внутрижанровых заимствований и художественного переосмысления таких значимых текстов, как работы Жака Бодрийяра (cм.: [2; 3]).
Сама идея проекта идеального острова – пародия на «Утопию» Томаса Мора. Это территория, где нет частной собственности и денег, открытая для чужеземцев, особенно обладающих какими-то талантами. «Англия, Англия» же является частной собственностью Джека Питмена, успешным коммерческим проектом, привлекающим очень состоятельных туристов и нескончаемые потоки долларов и иен. Сюжетная основа романа как антиутопии – осуществление тематического проекта, некая консьюмеристская утопия, которая должна сосредоточить в себе все истинно английское – разумеется, не в подлиннике, а в форме идеально продуманной копии для привлечения туристов.
В качестве площадки для Проекта выбран остров Уайт, реально существующий у берегов Англии. Описывая остров Уайт с помощью шекспировской цитаты: «Дивный сей алмаз в серебряной оправе океана», – создатель и благодетель Джек Питмен подменяет подлинное означаемое – Англию – на ее будущую копию, запуская механизм постепенного замещения оригинала симулякром.
Многократны отсылки к «Острову» Олдоса Хаксли: это и частотное наименования проекта – «Остров», и прямое цитирование философского принципа Палы
«здесь и сейчас», но уже не как принципа отношения субъекта к действительности, а как наиболее совершенного метода ее воссоздания в качестве популярного продукта для массового потребления.
Для антиутопии характерны два основных конфликта, повторяющиеся в той или иной форме во всех текстах данного жанра: это конфликты цивилизации и культуры, личности и государства. В «Англии, Англии» они трансформируются в конфликт копии и оригинала и внутренний конфликт главной героини, находящейся в поисках самоидентичности, мультиплицированный в образах второстепенных героев. Таким образом, на этом уровне текста реализуются одновременно внутрижан-ровый диалог и отсылки к актуальной проблематике современной культуры.
Замена настоящей Англии ее репрезентацией явно отсылает нас к теории симуляции Жана Бодрийяра. Механизм замещения и «смерти» оригинала легко можно проследить по паратексту – названию романа и его частей. Первая часть называется «Англия» и посвящена жизни главной героини Марты и старой Англии до проекта, вторая – «Англия, Англия» рассказывает о становлении острова как независимого от своего оригинала симулякра, в третьей – настоящая Англия исчезает, вместо нее появляется Ингленд, закрытая отсталая аграрная страна, ничего общего не имеющая с «метрополией» – оригиналом, зато копирующая симулятивную природу «Англии, Англии». Ее жители, имеющие вполне реальные постиндустриальные жизни в прошлом, охваченные «паническим производством подлинного» [3, с. 265], постепенно вживаются в свои вынужденно принятые роли простых фермеров и ремесленников и постепенно воссоздают Англию, какой она была в начале XX века.
В то же время использование слов с пространственной семантикой в названии соответствует жанровой традиции утопической литературы, заложенной еще Томасом Мором. «Утопия» – это нереальное идеализированное пространство, противопоставленное реальной и подчеркнуто несовершенной Англии. «Англия, Англия» амбивалентна как с точки зрения реальности (расположенный на существующем острове Уайт слепок с реальной Англии, выдуманный от и до), так и с позиции «идеальности»: лучшие элементы английской культуры становятся её зловещим двойником, вытеснившим оригинал.
Еще одна «архитекстуальная» проблема романа-антиутопии, проблема личности, трансформируется в вопрос о реальности личности и истории, связанный соответственно с личной и культурной памятью. Главная героиня «в поисках себя» постоянно обращается к детским воспоминаниям – и признает их потенциальную неподлинность, ведь наша память постоянно подвергается «обновлению» и ретуши, в создании своего образа или автомифа. Также ретушируется, заменяется и конструируется культурная память нации: подлинное и фальсифицированное смешиваются до неразличимости, и вопрос о реальности того или иного представления часто зависит от того, «сколько человек в это верят» [1, c. 319].
Отклонением от жанровой традиции можно назвать то, что становление «проекта» показано в динамике, прием эксплицированы не только внешние и физические процессы (постройка объектов, достижение независимости, организация работы), но и идеология: пятьдесят «самых английских» символов выбираются в результате обширного социологического опроса. В процессе создания «реплик» на острове оказывается, что большинство «исконно английских традиций» – всего лишь мифы, поэтому их копии отсылают к искусственным конструктам, из которых и состоит Англия, да и, по мнению современных исследователей постмодерна, любая «национальная культура». Именно эти составляющие, перенесенные
«на другой уровень реальности» в виде совершенно выполненных копий, создают новую Англию, или, как называет ее автор проекта, фиксируя превосходство над оригиналом, «Англию, Англию». Символическим обменом, знаком превосходства Новой Англии над старой можно считать переезд монаршей четы из Лондона в Букингемский дворец-2.
Пародирует жанровую традицию образ «большого брата» – автора и реализатора проекта – Мистера Джека Питмена. Эпитет «большой» здесь получает буквальное, несколько даже раблезианское воплощение в виде необъятного тела антагониста. Мотив «слежения» и контроля за личной жизнью сотрудников получает довольно пикантную окраску, сочетаясь с мотивом сексуальных девиаций. Интерпретация этого сюжетного компонента видится возможной только в контексте работы Эриха Фромма «Анатомия человеческой деструктивности», которая связывает властность и искаженную сексуальность, а склонный к нарциссизму и «доброжелательному садизму» (подчинению) Питмен обнаруживает сходство с описанным Фроммом Генрихом Гимлером [9, c. 448]; в тексте такая связь подчеркивается «анально-накопительной» природой питменовских тайных удовольствий.
Противостояние цивилизации и культуры, превосходство первой и гибель последней – locus communis антиутопий ХХ века – также раскрывается через оппозицию подлинника и копии, причем копия оказывается более успешной в коммерческом смысле: цивилизация подделок – идеальный продукт для потреблении, в то время как настоящая культура «неудобная и пугающая».
Человек в таком контексте имеет ценность, основанную лишь на его коммерческих талантах, в данном случае – на умении воссоздавать и конструировать идеальную Англию. Любого сотрудника можно быстро «заменить симулякрами» [1, с. 190], а профессиональные обязанности вытесняют индивидуальность: так, например, всех референтов Джека Питмена называют Сюзи и воспринимают как одну личность.
Элемент перверсированного карнавала, отмеченный как жанровая детерминанта антиутопии Борисом Ланиным [8], в «Англии, Англии» реализуется в тексте непосредственно в трех пространствах. Во-первых, это воспоминания Марты об увиденном ею в детстве празднике, конкурсе урожая (самые яркие и «достоверные» ее воспоминания), во-вторых, сам тематический парк как топос бесконечного праздника, в-третьих, финал романа – вновь придуманный праздник в Ингленде, который должен был воссоздать Майский день, но проводится в июне, теряет свои традиционные черты и свои связи с оригиналом. Мотив фальсификации и разрыва между означающим и означаемым подчеркивается травестией (королева Виктория и Эдна Галлей в изображении местных жителей-мужчин) и иллюзорностью восприятия: песня пеночки оказывается трелями велосипедного звонка в руках пьяного в стельку «офицера» полиции. В то же время это становление новой традиции и окончательное вхождение жителей деревни в выбранные ими роли.
Кроме того, обращаясь к дискурсу Бахтин-Кристева [7, c. 437], можно рассматривать черты мениппеи в антиутопии: такие, как соположение комического и трагического, целостная реализация карнавального начала (государство = парк развлечений), отчетливая пародийная направленность и интертекстуальность.
Чтобы подчеркнуть художественные особенности текста, уместно использовать понятие гипертекстуальности, где гипертекст – «проявленная интертекстуальность, сделанная зримой и общедоступной» [6, c. 35] – стремится к эксплицированию связей, вне которых он не существует. Барнс как раз и обнажает эти связи, текст изобилует цитатами и аллюзиями к романам утопической традиции, а философские концепции постмодернизма, прежде всего идеи Бодрийяра, эксплицированы в «Англии, Англии» на уровне сюжета, топонимики, лексики. Более того, «французская теория» персонифицирована в романе в образе интеллектуала-француза, в котором при желании можно найти некое портретное сходство с самим Бодрийяром и который Бодрийяра же и цитирует: «Все, что когда-то переживалось непосредственно – стало всего лишь репрезентацией» [1, с. 111] – и продолжает эту мысль, словно показывая, как контекст может исказить смысл высказывания [Там же, с. 112].
Теперь имеется репрезентация – позвольте расчленить это слово: «ре-презентация», повторная презентация – мира. Это не заменитель неказистого первобытного мира, но его улучшенный и обогащенный, иронизированный и суммированный вариант. Вот где мы отныне живем… Мы должны требовать копий, ибо реальность, истина, аутентичность копии – это то, что мы можем присваивать, колонизировать, реструктурировать, использовать как источник jouissance .
Симуляция реальности и потребление видятся с этой точки зрения утопическим идеалом – все зависит от контекста и языковых манипуляций. Вообще же в рамках постмодернистского развития утопического мышления границы между утопией и антиутопией размываются, что проявляется уже у Хаксли в «Острове» или в «Галапагосах» Курта Воннегута.
Мы можем заключить, что для антиутопии постмодернизма характерна открытая, даже подчеркнутая интертекстуальность на всех уровнях, жанровые доминанты обыгрываются в пародийном ключе, а текстовая реализация таких идей, как симуляция и потребление, высвечивает «социальную мысль» как важную внехудо-жественную составляющую жанра. Жанровые структуры, заложенные еще Томасом Мором, наполняются содержанием, обусловленным текущим состоянием культуры. Диалог с культурой и интертекстуальность обуславливают жизнеспособность и востребованность жанра антиутопии.
Список литературы Функция интертекста в романе-антиутопии Дж. Барнса "Англия, Англия"
- Барнс Дж. Англия, Англия. М.: АСТ, 2003. 349 с.
- Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть М.: Добросвет, 2015. 387 с.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции//Современная литературная теория: Антология/сост. И. В. Кабанова. М.: Флинта, 2003. С. 258-270.
- Гаврикова Ю. С. Интертекстуальность англоязычных антиутопий: автореф. дис. … канд. филол. н.: 10.02.04/Ю. С. Гаврикова; Ворон. гос. ун-т. Воронеж, 2012. 20 с.
- Женетт Ж. Фигуры: Работы по поэтике: в 2 т. Т. 2. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 1998. 472 с.
- Корнев С. «Сетевая литература» и завершение постмодернизма: Интернет как место обитания литературы//Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 29-47.
- Кристева Ю. Бахтин, слово, диалог и роман//Французская семиотика: От структурализма к постструктурализму. М.: Прогресс, 2000. С. 427-457.
- Ланин Б. Анатомия литературной антиутопии. //Федеральный образовательный портал. Экономика. Социология. Менеджмент. URL: http://ecsocman.hse.ru/data/120/386/1217/017_LANIN.pdf (дата обращения: 21.02.2019).
- Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М.: АСТ, 2004. 635 с.