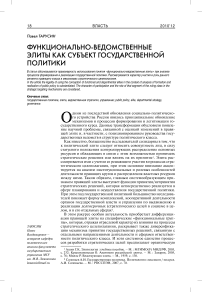Функционально-ведомственные элиты как субъект государственной политики
Автор: Тарусин Павел Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Политические процессы и практики
Статья в выпуске: 12, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье обосновывается правомерность использования понятия «функционально-ведомственные элиты» при анализе процессов формирования и реализации государственной политики. Рассматривается характер участия и роль данного сегмента правящего класса в механизмах стратегического целеполагания.
Государственная политика, элита, ведомственная стратегия, управление
Короткий адрес: https://sciup.org/170165186
IDR: 170165186
Текст научной статьи Функционально-ведомственные элиты как субъект государственной политики
О дним из последствий обновления социально-политического устройства России явилось принципиальное обновление механизмов и процессов формирования и легитимации государственного курса. Данные трансформации обусловили появление научной проблемы, связанной с оценкой изменений в правящей элите и, в частности, с позиционированием руководства государственных ведомств в структуре политического класса.
Как известно, большинство исследователей солидарны в том, что к политической элите следует относить совокупность лиц, в силу статусного положения контролирующих распределение основных ресурсов и обладающих в связи с этим возможностью принимать стратегические решения или влиять на их принятие1. Элита рассматривается ими с учетом ее решающего участия в процессах стратегического целеполагания, при этом основное внимание акцентируется на анализе институциональных и ролевых особенностей деятельности правящих кругов и распределения властных ресурсов между ними. Таким образом, главным системообразующим признаком правящей элиты выступает функция принятия/непринятия стратегических решений, которая непосредственно реализуется в сфере планирования и осуществления государственной политики. При этом под государственной политикой большинство исследователей понимает форму комплексной, кооперативной деятельности органов государственной власти и управления по выдвижению и реализации долгосрочных (стратегических) целей в социуме в целом, и в его отдельных сферах2.
ТАРУСИН Павел
В этом ракурсе особую актуальность приобретает дифференциация правящей элиты на специфические «функциональные группы», которая, отражая отраслевой характер их влияния на процессы стратегического целеполагания, раскрывает также диверсификацию механизма принятия государственных решений, связанную с отдельными направлениями деятельности и сферами ответственности политического класса. И хотя системное единство процессов разработки стратегических целей предполагает органическую интеграцию различных фракций правящей элиты в единое целое, тем не менее ее функционально-ведомственные сегменты отражают наличие специфических ролей и уровней ответственности в сфере принятия государственных решений.
Данный функциональный подход предполагает рассмотрение характера участия субъектов стратегического целеполагания в контексте функционирования и развития процессов и механизмов формирования государственной политики. Причем с точки зрения исследования элиты как совокупности функциональных групп на первый план неизбежно выдвигается ее политический сегмент, непосредственно руководящий и направляющий процессы формирования государственного курса. С содержательной точки зрения характеристика политической элиты как функциональной группы предполагает рассмотрение динамики выполняемых ею задач (формирование государственной политики и контроль над ее реализацией) и организационных (в т.ч. ведомственных) форм, в рамках которых данные роли и исполняются.
Как известно, содержательно политическое решение формируется через совокупность контактов, которые возникают и поддерживаются внутри сети ролевых интеракций, отражающей действия различных политико-административных коалиций. Усиление неоднородности и конкурентности политического пространства обусловливает изменение природы субъектных интеракций по поводу формирования и реализации государственной политики. В ходе данных процессов формируется многоуровневая сеть взаимодействий различных субъектов, в рамках которой осуществляются челночные процессы согласования интересов и позиций контрагентов и их последующее оформление в виде проектов решения. При этом состав участников, их позиции и ресурсная обеспеченность значительно варьируют в зависимости от этапов целеполагания, обсуждаемых сюжетов и используемых для принятия решений площадок.
Участвующие в процессах целеполагания различные группы представителей бизнеса, владельцев значимых ресурсов, лидеров общественного мнения и др. дополняют политико-управленческий сегмент, приводя к формированию альянсов, выходящих по своему качественному составу за пределы элитарного круга. На место относительно устойчивых отраслевых субэлит приходят чрезвычайно гибкие, постоянно меняющие внутреннюю конфигурацию и внешний дизайн временные коалиции разнообразных группировок правящей элиты и их партнеров.
Утрате отраслевыми элитами монопольного положения в собственных областях регулирования способствовала и ускоренная интеграция данных сфер. Р. Миллс отмечал: «Прошло то время, когда с одной стороны существовала сфера экономики, а с другой – сфера политики, включавшая в себя военное ведомство, деятельность которого не влияла на политическую и деловую жизнь. Теперь существует пронизанная политикой экономика, связанная тысячью нитей с военными институтами и их решениями»1. Углубляющаяся интеграция и взаимозависимость между отраслевыми направлениями государственной политики заставляют привлекать к их разработке и принятию различные группы правящей элиты. Уже не отраслевая принадлежность проблемы, а потребности реализации конкретных функций государственного управления предопределяют выбор и состав участников процесса разработки и оформления целей.
В прежде недоступные стороннему влиянию сферы деятельности отраслевых элит последовательно проникают прочие игроки. Тем самым при описании механизмов выработки государственных стратегий невозможно жестко закрепить статус фактического субъекта принятия решений за каким-либо конкретным участником процесса. Качественно данный субъект приобретает интегральное состояние, при котором степень влияния составляющих его участников на принятие и содержание решений не постоянна и зависит от баланса сил в правящей верхушке, социально-экономической конъюнктуры, функциональной специфики и содержания рассматриваемых проблем.
Совокупные итоги взаимодействия субъектов по поводу содержания государственной политики и направлений расходования ресурсов в значительной степени формализуются и реализуются руководством государственных ведомств. Именно на этом уровне, где совмещаются реальные полномочия и понимание возможностей по сочетанию и реализации разнообразных групповых интересов, и может быть наиболее эффективно и рационально отражено содержание политических установок. Руководство ведомств, даже ориентируясь на собственные представления о протекающих политических и социально-экономических процессах, так или иначе отражает реальную диверсификацию социальных интересов, их различное значение для выработки государственных стратегий. Этим и объясняется последовательное усиление ведомственных полномочий, особенно в части согласования и визирования разнообразных законодательных и управленческих инициатив, относящихся к их функциональным сферам деятельности.
Не выходя за рамки формальных полномочий и установленных процедур, ведомственное руководство способно оказывать существенное влияние на содержание государственных стратегий, а порой – и самих политических целей. Зачастую оно принимает на себя исполнение политических функций, что и дало повод ряду исследователей говорить о «политизации администрирования». Особенно заметна ведомственная «политизация» в таких закрытых сферах, как безопасность, оборона и т.п. Исключение из формальных процессов принятия решений ведущих политических и социальных контрагентов смещает активность последних в слабо контролируемое пространство теневых взаимодействий. В данном ракурсе ведомственное руководство выступает в качестве неформальных каналов презентации интересов различных социальных групп и слоев.
Возникли предпосылки для проведения самостоятельных ведомственных стратегий, отличных от декларируемого государственного курса, который все теснее увязывается с интересами формирующихся в структурах исполнительной власти и ведомств политико-административных ассоциаций. Договоренности и взаимные обязательства руководства ведомств между собой позволяют порой игнорировать установки верховной власти, провоцируя вместе с тем рост транзакционных издержек при формировании и реализации государственного курса.
При этом многие представители правящей элиты указывают на настоятель- ную необходимость и неизбежность расширения институциональных основ ведомственной самостоятельности за счет перераспределения функциональных полномочий и прерогатив, усиления горизонтальных взаимодействий, формализации и рационализации (даже технократизации) процедур и механизмов целеполагания в интересах повышения качества самого стратегического планиро-вания1. Подобные призывы отражают не только объективные тенденции развития системы государственного управления, но и возросшие претензии руководства государственных ведомств, осознание им своего нового места и возможностей в политическом пространстве.
Таким образом, характер участия и степень влияния элитных групп на выработку стратегических решений более зависят от принадлежности к ведомственным структурам, нежели от их отраслевой дифференциации. Подобное влияние имеет объективную основу и не решается путем кадрового обновления руководящего персонала ведомств и органов власти. Изменение декларируемых установок ведомственного руководства не трансформирует кардинально содержание долгосрочных (принципиальных) факторов, лежащих в основе разнообразия ведомственных и отраслевых подходов, которые новые руководители неизбежно будут вынуждены учитывать в дальнейшем.
От подходов, мотивов и экспертных знаний данного субъекта государственной политики в значительной степени зависит характер и содержание перевода формул политических ограничений, отражающих общесоциальный уровень приоритетов и масштабов целеполагания, в конкретные государственные стратегии и планы действий. Тем самым руководство государственных институтов и ведомств, сфера ответственности которого охватывает зону непосредственных взаимодействий политики и управления, следует выделять как специфический сегмент правящей элиты. Данные выводы вполне согласуются с организаторской (функциональной или технологической) теорией, развитой в работах Дж. Бернхэма, А. Фриша, К. Боулдинга, согласно которой процессы институцио- нализации элитных групп, их позиционирование и статус, распределение влияния определяется востребованностью выполняемых функций в системе власти1.
Указанные основания позволяют избрать в качестве основных критериев структурирования правящей элиты специфику исполняемых на постоянной основе функций государственного управления и ведомственную принадлежность. Выделяемые по данному основанию функционально-ведомственные элиты (ФВЭ) представляют собой совокупность лиц, занимающих ключевые позиции в ведомственных управленческих структурах, полномочия и ресурсы которых позволяют участвовать в принятии стратегических решений в сфере государственной политики или оказывать влияние на их принятие и содержание. Косвенно на существование данных элит указывает и О. Гаман-Голутвина: «Ослабление власти лица, призванного выступать субъектом артикуляции государственных интересов… способствовало дроблению высшего эшелона политической элиты и усилению позиций субэлитных структур – отраслевых и ведомственных»2. С точки зрения критерия структурирования, основанного на степени институционализации влияния на принятие решений, функционально-ведомственные элиты относятся к сегменту высшей бюрократии в составе политической элиты.
Основная функция указанных элитных групп заключается в регулировании процессов взаимодействия политических и макроэкономических факторов при преобразовании политической власти в управленческие действия, в трансформации политических решений в ведомственные стратегии и контроль над их реализацией. Тем самым они выступают в качестве балансира в системе государственной власти, призванного оптимально совместить при решении конкретных задач потребности правящего режима с интеграцией общества как социально-экономи- ческого целого, минимизировать риски и последствия неоправданного вмешательства политики и управления в сферы исключительной компетенции друг друга.
Благодаря своему пограничному положению на стыке политического и макроэкономического уровней государственного управления, деятельность данных групп приобретает дихотомический характер.
Соответственно, различна и интерпретация сторонами качественного содержания их взаимодействий. Политическая верхушка, обладающая прерогативами подбора кадрового состава ведомственного руководства, рассматривает деятельность последнего, как правило, с точки зрения соблюдения персональной лояльности, в личном качестве – как членов собственной команды, а не руководителей автономных государственных структур. У ведомственных же элит соображения институциональной лояльности (политическим институтам – институту президента, правительства, конституции) доминируют над мотивами личной преданности, соответственно, содержание коммуникаций с политическим руководством интерпретируется ими с точки зрения функционально-ведомственной рациональности и эффективности.
Причем соображения институциональной лояльности все сильнее стимулируются самим ходом политического развития страны, хотя об их доминировании над корпоративной и/или персональной преданностью говорить пока рано. Как показала практика, возникающие политические обязательства и благодарность за оказанную поддержку, так же как персональная лояльность главе государства, уже недостаточны в условиях демократизирующейся политической системы. Формальные институциональные рамки резко сократили возможности и желание руководителей ведомств открыто вмешиваться в политические процессы на стороне какой-либо из противоборствующих сил. Как правило, они занимают позицию равноудаленности от оппонентов и лавирования между ними, проводя наиболее выгодную стратегию собственного выживания как элиты.