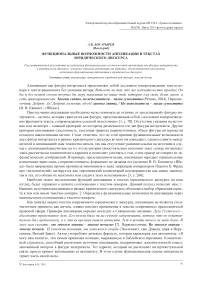Функциональные возможности аппликации в текстах юридического дискурса
Автор: Богатырев Александр Валерьевич
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Фигуры интертекста в системе выразительных средств языка
Статья в выпуске: 5 (39), 2015 года.
Бесплатный доступ
Рассматриваются результаты исследования функциональных возможностей аппликации как фигуры интертекста в юридическом дискурсе, основные отличия аппликации от цитаты; обозначиваются текстовые источники формирования аппликации в юридическом дискурсе
Аппликация, интертекст, юридический дискурс, текст-донор
Короткий адрес: https://sciup.org/14822305
IDR: 14822305
Текст научной статьи Функциональные возможности аппликации в текстах юридического дискурса
Аппликация как фигура интертекста представляет собой дословное воспроизведение текста-донора в тексте-реципиенте без указания автора: Вот-вот, но так это же издевательство просто! Он бы и без всякой сделки получил бы меру наказания не выше той, которую ему дали. Есть закон, а есть правоприменение. Законы святы, но исполнители - лихие супостаты (Резник, 2004). Первоисточник: Добров: Ах! Добрый господин, ей-ей! законы святы, /Но исполнители - лихие супостаты (В. В. Капнист, «Ябеда»).
При изучении аппликации необходимо четко понимать ее отличие от «родственной» фигуры интертекста – цитаты, которая трактуется как фигура, представляющая собой «дословное воспроизведение фрагмента текста, сопровождаемое ссылкой на источник» [1, с. 78]. Отсутствие указания на источник или на автора – главный критерий, по которому различаются эти две фигуры интертекста. Другие критерии аппликации (дословность, текстовая природа первоисточника, объем фигуры интертекста) остаются аналогичными цитате. Стоит отметить, что по этой причине функциональные возможности двух фигур интертекста в рамках юридического дискурса во многом совпадают, однако ставить между цитатой и аппликацией знак тождества нельзя, так как отсутствие указания ссылки на источник в случае с аппликацией рассчитано на то, что аудитория самостоятельно вспомнит текст-донор, интертекст здесь рассчитан на компетентного адресата и позволяет умолчать о том, о чем оратор не говорит из эвфемистических соображений. В примере, представленном выше, аппликация передает отрицательные коннотации через связь с первоисточником, формально не называя его (комедия В. В. Капниста «Ябеда» была направлена против произвола чиновников и даже запрещена императором Павлом I). Фраза про «исполнителей» цитируется как «иронический комментарий несовершенства как самих законов, так и тех, кто обязан их исполнять или следить за их исполнением» [3, с. 266].
Наиболее полно исследование функций аппликации в текстах юридического дискурса, на наш взгляд, будет отражено в аспекте соотношения с текстом-донором. Данный подход позволит нам: 1. Выявить источники аппликации в рамках юридического дискурса; обосновать выбор обращения юриста к тем или иным текстам-донорам. 2. Определить функциональные возможности аппликации через межтекстовое соотношение с текстом-донором.
Как показал анализ текстов современного юридического дискурса, аппликация не является столь частотным приемом, как цитата, однако находит применение в текстах современных представителей правовой сферы. Примеры аппликации нередко восходят к Священному писанию: Дело Гусинского - абсолютно придуманное дело. Его нельзя было ни на секунду задерживать, потому что он действительно был орденоносец, а к этому времени вышла амнистия. Тут и искать ничего не надо было. Я могу вам сказать: «во многом знании - многие печали» [ 7] . Первоисточник: Во многом знании - многие печали. И умножая познания, мы умножаем скорбь (Экклезиаст, сын Давида, царя в Иерусалиме, Ветхий Завет) . Автор употребляет речевую формулу, которая характерна для автоцитаты: «Я могу вам сказать», тем самым принимая позицию, выраженную в библейском изречении. Компетентный слушатель, способный распознать источник аппликации, воспринимает дополнительный смысл, заложенный автором в фигуре интертекста. Тот адресат, который не распознает интертекстуальной связи, просто примет аппликацию за автоцитату. В этом случае функциональная основа интертекста теряет часть своей силы.
В целом же библейские аппликации имеют, как показал анализ юридических текстов, широкое распространение в рассматриваемом дискурсе. Наблюдается тенденция использования библейских аппликаций в декоративной, художественной функции. Фрагменты текста-донора становятся крылатыми выражениями, связь с текстом-донором теряется, что не исключает, однако, вторичного смысла – двуплановость таких элементов можно сравнить с фразеологическими единицами: Ну, я уже сказал, что имеющий уши да услышит (Барщевский, 2011 (а)); Кстати, уж коли об этом зашла речь, хочу еще раз напомнить радиослушателям, потому что нет пророка в своем отечестве , но своих героев помнить надо, что тогда из Норд-Оста кто выводил живых людей до начала исторической операции, – Рошаль, Кобзон… (Барщевский, 2011(б)) . Последний пример позволяет проследить переход модификации текста первоисточника и появление на его основе крылатого выражения. В оригинале фраза звучит следующим образом: Иисус же - сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и в доме своем (Новый Завет, Евангелие от Матфея, гл. 13, ст. 57). Впоследствии она модифицируется, не меняя, впрочем, своего смысла, и закрепляется в литературном дискурсе: <…> вдруг страстно полюбил непонятную Любовь Сергеевну, и только допускал, что в его тетке есть тоже хорошие качества. Видно, справедливо изречение: «Нет пророка в отечестве своем» (Л. Толстой. Юность). В данном виде это изречение можно наблюдать в периодике: Проводятся ли выставки его работ, выпускаются ли, как за рубежом, красочные альбомы, буклеты? В ответ лишь остается привести грустное изречение: «Нет пророка в своем отечестве». Существовавшее до недавнего времени враждебное отношение к эмиграции не способствовало объективной оценке того, что уже давно по достоинству оценено на Западе («Литературная газета», № 37. 13.09.1989). Венцом интертекстуального переходирования первоисточника является переход в статус крылатого выражения: Предполагается, что все истинно мудрое, правильное и т. п. может родиться не здесь, а где-то в прекрасном далеке [3, с. 515–516]. Это говорит о том, что интертекст, в частности фигура аппликации, может служить источником формирования крылатых выражений и фразеологических единиц. Однако вернемся к примеру из юридического дискурса. Является ли интертекстуальный фрагмент нет пророка в своем отечестве аппликацией? Из-за модификации (изменение порядка слов, замена части слов из текста-донора синонимами) нарушается критерий дословности по отношению к первоисточнику из Евангелия, что не позволяет нам говорить об аппликации в этом случае. Вместе с тем аппликация соблюдает все критерии этой фигуры интертекста по отношению к модицифированному фрагменту, который мы видим, например, в произведении Л. Толстого. Таким образом, диахронический процесс формирования крылатого выражения может искажать интертекстуальную связь между текстом-источником и текстом-донором в аспекте формы выражения, но сохраняет ассоциативную связь с текстом-донором, а также смысл, идею текста-донора в конечном тексте. Ведь именно через смысл, который мы читаем из Евангелия, раскрывается смысл крылатого выражения в у Л. Толстого; этот же смысл мы расшифровываем в примере из текста юридического дискурса и видим в энциклопедическом словаре. Статус подобных аппликаций остается спорным и требует отдельного внимания в каждом конкретном случае: «Нет, ну вот чиновник Барщевский. У нас в гостях чиновник Барщевский» – «Конечно. В сегодняшнем лексиконе это явный негатив» – «И как вы несете этот крест?» – «Спокойно. Хулу и похвалу» (Барщевский, 2011(в)). Первоисточник: « Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца » (А. С. Пушкин. «Памятник») => искажение, приобретающее массовый характер и формирующееся в крылатое выражение: « Хулу и похвалу приемли равнодушно …» (заголовок статьи в Литературной газете, № 5 (6105), 7 – 13 февр. 2007).
Аппликация может выполнять оценочную функцию, если адресат распознает источник и сумеет сопоставить контекстуальный и интертекстуальный смыслы: Его вызывают в суд, он дает показания, и вроде как исследуются его доказательства. Но «оставь надежду всяк сюда входящий». Какие бы доказательства ни приводила сторона защиты в оправдание подсудимого, это во внимание не принимается. Это опять наследие советских времен, когда по выделенному делу осуждали [7]. Кроме оценочной функции в примере выше мы снова видим эвфемистическую функцию. Юристу удается дать отрицательную характеристику в отношении суда, но характеристика эта не явная, завуалированная интертекстуальной связью с «донором». Тем самым сохраняется дискурсивное требование уважения к суду.
Так же «тактично», косвенно могут работать аппликации из литературных источников. Автор как бы перекладывает оценочную функцию на текст-донор, показывает типичность ситуации. Аппликация выполняет одновременно и оценочную, и эвфемистическую, и декоративную функции : Почему себя судьи так ведут по политическим делам? А как? Судьи, между прочим, не монстры. Судья понимает, что его нагнули. Он не как тот чеченский судья. Он понимает. «Был Галилея не глупее, он знал, что вертится Земля, но у него была семья». Они знают, что за приговоры они выносят. Вы понимаете, что творится в душе у судьи, когда он понимает, что он творит неправосудие?! [Там же]. Первоисточник: Ученый, сверстник Галилея, / Б ыл Галилея не глупее. / Он знал, что вертится земля, / Но у него была семья (Е. А. Евтушенко «Карьера»). Здесь в очередной раз проявляется главное функциональное отличие цитаты от аппликации: последняя, в больше степени, чем цитата, требует от нас знания текста-донора. Все, что необходимо для аргументации и обоснования своей позиции, цитата «забирает» с собой из текста-донор в текст-реципиент. В случае с аппликацией мы должны сами обратить свою память к тексту-донору, чтобы до конца оценить смысловую подачу оратора.
Так, стихотворение о двух политических «зеках», один из которых якобы «копал» под родину, заставляет нас провести параллели между делом, которое комментирует юрист, и политическими делами времен репрессий в СССР. Стоит добавить, что А. Галич это стихотворение посвятил Варламу Шаламову, который тоже направлялся в лагеря как политзаключенный. Таким образом, всего под одной фразой, аппликацией из текста-донора, скрывается дополнительный смысл, межтекстовые ассоциации, которые реализуются только при знании источника. Аппликация позволяет сказать то, о чем оратору вслух не хочется говорить: Задача же изначально была поставлена другая - вместо реально существующей административки создать уголовку. Песня уж больно дерзкая <…> А в Административном кодексе наказание всего-то штраф в 10 минимальных размеров оплаты труда, или 15 суток ареста. Не годится. Требуется посадка - не на сутки, на годы . «Чтобы знали все, что закаяно...» [7]. Первоисточник: И жену его, и сынка его, / И старуху-мать, чтоб молчала, блядь! / Чтобы знали все, что закаяно / Нашу родину сподниза копать! (А. Галич. Все не вовремя).
Аппликация в рамках юридического дискурса – превосходное средство для умелого оратора разбить позиции оппонента, синтезировать интертекст и сатиру, буквально въедаясь в слабые места речи противника: В моих обращениях шла речь о том, что вина П.К. Малышкина в инкриминированных ему преступления вообще не доказана (единственное, что «подтверждает» его вину – это опознания по «выражению лица» и по «месту расположения губ», которые у него, как и у всех других людей находятся между носом и подбородком) [6, с. 191] . В процессе диалога аппликация также является инструментом для опровержения тезиса оппонента. Обычно из текста собеседника «вырывается» фрагмент и помещается в собственный контекст, представляя собой фигуру аппликации: Когда речь идет о признании нарушения чьих-то прав, то мы говорим не только о денежной компенсации. Мы же говорим о том, что как-то механизм надо отыграть назад, да? Надо перестать нарушать права » – «Нет, «перестать нарушать права» - это общая фраза <...> [1]. Отметим, что в письменных текстах юридического дискурса участник диалога имеет инструмент маркировки аппликации в виде графического обозначения интертекстуальности (кавычки, выделение жирным шрифтом и т. д.), что позволяет увидеть следы «другого текста», но не сближает аппликацию с цитатой, так как сам источник не называется.
Аппликация, как и цитата, вырванная из контекста, имеет потенциал для формирования запрещенного в честном риторическом поединке приема: Да, я очень бы хотел, чтобы у него получилось. Тем обиднее мне, когда он говорит глупости. Потому что... Понимаете, что значит предложение «ограничить голоса правящей партии»? Это означает: «Вы там, население, выбирайте, как хотите, но мы примем закон, по которому ваш выбор – это для нас информация» (Барщевский, 2011 (г)). Жирным шрифтом мы выделили аппликацию, которая отсылает нас к тексту-донору – словам одного из участников диалога. Вслед за аппликацией оратор использует психологический аргумент к вере, достаточно произвольно интерпретируя текст-донор в соответствии с той коммуникативной линией поведения, которая выгодна оратору. Психологический аргумент здесь строится только за счет формулы «текст-донор» => означает, что => собственная интерпретация. Никаких логических средств убеждения в данном отрывке мы не наблюдаем.
Как и в случае с цитатой, мы наблюдаем аппликации, восходящие к античным текстам: Значит, Сократ мне друг, но истина дороже . Значит, я хорошо отношусь к Рашиду Гумаровичу, не скрываю этого и буду к нему хорошо относиться, даже если он перестанет быть министром – то есть я не по должности к нему отношусь хорошо, а по-человечески. Но в данном случае истина дороже . Вот эта инициатива Рашида Гумаровича не была реализована. (Барщевский, 2010). Аппликация в данном примере выполняет декоративную и пояснительную функции , а также служит основой для параллелизма, реализуемого через горизонтальный интертекст: Сократ мне друг, но истина дороже = Я хорошо отношусь к Рашиду Гумаровичу, но истина дороже .
Близка к понятию аппликации такая разновидность интертекста, как плагиат. Схема формирования двух этих явлений однородна, но главное отличие – в интенции адресата. Если оратор хочет выдать текст-донор за свой оригинальный текст, пытается замаскировать чужие мысли под свои, то речь идет о плагиате. Если же адресат использует аппликацию в риторических целях, то речь идет об аппликации. Плагиат расценивается как «подлинное посягательство на литературную собственность, как своего рода мошенничество, ибо оно не только ставит под сомнение честность плагиатора, но и нарушает правила нормальной циркуляции текстов» [2, с. 89].
Подводя итог, отметим, что аппликация в текстах юридического дискурса имеет формальные признаки цитаты, отличаясь от последней только отсутствием ссылки на источник. Отсутствие ссылки на текст-донор рассчитано на прецедентную компетентность адресанта. Такой подход делает аппликацию инструментом для реализации коммуникативных задач эвфемистического характера. Наиболее широко представлены в юридических текстах аппликации, опирающиеся на библейские, литературные и античные тексты. Основные функции данных фигур интертекста в этих случаях: декоративная, оценочная, эвфемистическая, пояснительная . Аппликация является также инструментом спора в юридическом дискурсе ( эристическая функция), при этом формируя как логические, так и запрещенные психологические аргументы. В аспекте диахронии аппликация служит источником формирования крылатых выражений и фразеологических единиц.
Список литературы Функциональные возможности аппликации в текстах юридического дискурса
- Москвин В.П. Интертекстуальность: понятийный аппарат, фигуры, жанры, стили. М.: URSS, 2011.
- Пьеге-Гро Натали. Введение в теорию интертекстуальности: Пер. с фр./Общ. ред. и вступ. ст. Г. К. Косикова. М.: Издательство ЛКИ, 2008.
- Серов В. Энциклопедический словарь крылатых слов и выражений: Более 4000 статей. 2-е изд. М.: Локид-Пресс, 2005. Источники
- Барщевский М. Стенограмма эфира передачи «Особое мнение» (от 24.08.2010)//Сайт радиостанции «Эхо Москвы». URL: http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/705284-echo/#element-text.
- Барщевский М. Стенограмма эфира передачи «Особое мнение» (от 22.11.2011(а))//Сайт радиостанции «Эхо Москвы». URL: http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/832195-echo/#element-text.
- Барщевский М. Стенограмма эфира передачи «Особое мнение» (от 20.12.2011(б))//Сайт радиостанции «Эхо Москвы». URL: http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/840800-echo/#element-text.
- Барщевский М. Стенограмма эфира передачи «Особое мнение» (от 06.09.2011(в))//Сайт радиостанции «Эхо Москвы». URL: http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/809017-echo/#element-text.
- Барщевский М. Стенограмма эфира передачи «Особое мнение» (от 30.08.2011(г))//Сайт радиостанции «Эхо Москвы». URL: http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/806968-echo/#element-text.
- Костанов Ю. А. Слово и «дело». Судебные речи. М.: Verte, 2007.
- Резник Г. М. Наш суд не ведает сомнений (от 16.12.2013)//Электронное периодическое издание «Новая Газета». URL: http://www.novayagazeta.ru/society/61467.html.
- Резник Г.М. Апофигей неправосудности (от 29.08.2012)//Электронное периодическое издание «Новая Газета». URL: http://www.novayagazeta.ru/comments/54157.html.