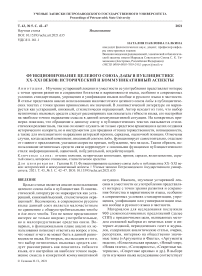Функционирование целевого союза дабы в публицистике XX-XXI веков: исторический и коммуникативный аспекты
Автор: Галкина Н.П.
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Дискуссии
Статья в выпуске: 5 т.43, 2021 года.
Бесплатный доступ
Изучение устаревшей лексики и уместности ее употребления представляет интерес с точки зрения развития и сохранения богатства и вариативности языка, особенно в современных условиях стандартизации, упрощения и унификации языков вообще и русского языка в частности. В статье представлен анализ использования малочастотного целевого союза дабы в публицистических текстах с точки зрения привносимых им значений. В лингвистической литературе он маркируется как устаревший, книжный, стилистически окрашенный. Автор исходит из того, что выбор нетипичных языковых средств следует рассматривать как показатель гибкости языка, его настройки на наиболее точное выражение смысла в данной коммуникативной ситуации. На конкретных примерах показано, что обращение к данному союзу в публицистических текстах оказывается стилистически релевантным, так как он может служить не только средством архаизации в целях создания исторического колорита, но и инструментом для придания оттенка торжественности, возвышенности, а также для имплицитного выражения авторской иронии, сарказма, оценочной позиции. Отмечены случаи, когда целевой компонент, вводимый союзом дабы, функционирует самостоятельно, отдельно от главного предложения, указывая скорее на призыв, побуждение, чем на цель. Таким образом, использование нетипичных средств связи коррелирует с основными функциями публицистического стиля: информационной, оценочной, побудительной, воздействующей.
Оттенок значения, историческая коннотация, ирония, сарказм, волеизъявление, скрытый смысл, авторское отношение, стилистическое средство
Короткий адрес: https://sciup.org/147234613
IDR: 147234613 | УДК: 811.161.1 | DOI: 10.15393/uchz.art.2021.635
Текст научной статьи Функционирование целевого союза дабы в публицистике XX-XXI веков: исторический и коммуникативный аспекты
Целью статьи является анализ использования целевого союза дабы в публицистике. В лингвистической литературе он маркируется как устаревший, книжный/высокий, стилистически окра-шенный1. Несомненно, в современном русском языке данный союз является малочастотным по сравнению с общеупотребительными чтобы и для того чтобы. Тем не менее представляют интерес не только широко употребительные, но и малопродуктивные средства связи. Во-первых, в функциональном плане анализ их использования позволяет ответить на вопрос о том, что может и чего не может быть в данной разновидности языка. Во-вторых, мы исходим из того, что выбор нетипичных языковых средств следует рассматривать как показатель гибкости языка, его настройки на наиболее точное выражение смысла в конкретной коммуникативной ситуации. Наконец, изучение устаревшей лексики и уместности ее употребления представляет интерес с точки зрения развития и сохранения богатства и вариативности языка, особенно в современных условиях стандартизации, упрощения, унификации или универсализации языков вообще и русского языка в частности.
Материалом для исследования послужили 900 сложноподчиненных предложений (далее СПП) с придаточными цели, выписанных методом сплошной выборки из печатных книг и ин-тернет-изданий, периодических газет и журналов, содержащих аналитические статьи, очерки, репортажи, интервью на общественно значимые темы («Аргументы и Факты», «Аргументы недели», «Комсомольская правда», «Новый мир», «Новая газета», «Солидарность», «Секретные материалы», «Секретные архивы» и др.). В выборе пути изучения языка исследование соответствует духу Московской лингвистической школы, идейным основоположником которой был Ф. Ф. Фортунатов: «от формы к содержанию, и шире, от наблюдаемых фактов – к ненаблюдаемым» [8: 47]. В этом смысле последователи «формальной» школы Ф. Ф. Фортунатова при анализе СПП ключевую роль отводят функциональным союзам как выразителям смысловых отношений между частями предложения.
***
Исследователи истории русского языка указывают на широкую употребительность целевого союза дабы в старославянском и древнерусском языках. В . И. Борковский характеризует его как «самый употребительный целевой союз в древнерусском языке» [7: 228], отмечая при этом: «Он часто встречается как в летописях, так и в памятниках религиозного содержания, в деловых документах значительно менее употребителен» [7: 222]. По свидетельству исследователя, в старорусский период дабы стал вытесняться целевым союзом чтобы, оставляя за собой роль маркера «торжественно-приподнятого стиля» [7: 224], а в современном русском языке дабы употребляется как «архаизм» [3: 544]. По А. Н. Стеценко, дабы был наиболее распространенным среди союзов, выражающих отношения цели (главным образом в памятниках книжного языка). В XVII веке употребление дабы выходит за рамки книжной речи, его можно встретить в языке художественных произведений, деловых документов [12: 260–261]. Л. А. Бу-лаховский отмечал, что союз дабы был очень распространенным в языке XVIII века и в первой половине XIX века [4: 375]. «Русская грамматика» маркирует дабы пометой ‘устаревший’ и ‘высокий’: «Союз дабы, уже в XIX в. имевший окраску устарелости, в современном языке сохраняет эту окраску либо употребляется в целях стилизации или иронически» [10: 595]. Л. Д. Беднарская в монографии, посвященной анализу развития системы сложного предложения «от Пушкина до наших дней», относит его к союзным средствам «архаико-эмотивной окрашенности» и говорит об оживлении их активности в современной художественной прозе [2: 79]. Таким образом, стилистическая отмеченность данного союза имеет давнюю историю. По результатам нашего исследования, охватывающего различные виды СПП со значением обусловленности, авторы публицистических произведений умело используют стилистический потенциал синтаксиса, в частности устаревшие/архаические средства связи СПП [5], [6]. Союз дабы среди них наиболее частотен (не считая бесспорно продуктивного ибо в корпусе причинных СПП). Конструкции с ним составляют чуть менее 1,5 % в выборке целевых СПП, в то время как на архаические условные союзы коли и кабы, например, приходится менее 1 % в выборке условных СПП (0,3 % и 0,2 % соответственно). Отметим, что статистика онлайн-проекта «Русская корпусная грамматика» также показывает относительно высокую частотность союза дабы (по сравнению с упомянутыми выше условными кабы и коли) в Газетном корпусе – 17 вхождений на миллион всех словоупотреблений при показателе 40 вхождений на миллион в выборке основного корпуса, включающего различные стили высказывания [1], [9].
Обращение к данному союзу в публицистических текстах оказывается стилистически релевантным, так как он может служить не только средством архаизации в целях создания исторического колорита, но и строевым элементом для придания оттенка торжественности, возвышенности, а также для имплицитного выражения авторской иронии и сарказма. Это отвечает многообразию задач публицистики [11: 204–205]. В информационном плане публицистическое произведение должно отличаться конкретностью, обоснованностью, точностью фактов и в то же время общедоступностью, эмоциональностью, стремлением заинтересовать, «зацепить» читателя. Коммуникативная задача публицистической речи заключает в себе экспрессивно-эмотив-ную, оценочную и воздействующую функции.
Устаревшая лексика способствует прежде всего созданию исторической коннотации. Например:
«Согласно одной из малоизвестных легенд, даже известь, дабы она не замерзала, приходилось разводить на спирту»2.
Отсылка к истории здесь осуществляется не только упоминанием о легенде, но и благодаря употреблению устаревшего средства связи дабы .
В следующей конструкции оформление придаточного цели союзом дабы придает высказыванию оттенок возвышенности, торжественности:
«“Дабы видели солдаты – сыны Родины, что сердцем он остался с ними”, – будто бы сказал, умирая, Кутузов»3.
То, что целевой компонент в данном построении функционирует самостоятельно, отдельно от недостающего главного предложения, скорее указывает на призыв, побуждение, чем на цель. Ср., например: «Пусть видят солдаты – сыны Родины, что сердцем он остался с ними».
Здесь уместно обратиться к этимологии целевого союза дабы, которая свидетельствует о его происхождении от слияния частиц да и бы4. Исторически частица бы (застывшая форма аориста глагола быть) является обязательным составным элементом почти всех целевых союзов. В семантике слова дабы немаловажной оказывается роль его первого строевого элемента – частицы да, которая имеет усилительное значение, может участвовать в выражении значения желательности, долженствования [3: 545]. См., например, фрагменты из толкования слова да в словаре Т. Ф. Ефремовой: употребляется при выражении настойчивой просьбы, побуждения, призыва или пожелания; соответствует по значению слову пусть; употребляется при придании большей выразительности вы-сказыванию5. Следующие примеры иллюстрируют модальное значение желательности, волеизъявления, придаваемое целевым придаточным за счет их прикрепления союзом дабы.
-
1 ) «Ведь спасение, оказание первой помощи и лечение – это три основных постулата, которые нужно применять быстро, дабы спасти жизнь человеку»6. 2) «И ни Писаржевский, ни Болховитинов не скупятся на популяризацию непонятного, как не скупятся конструкторы на проработку деталей, дабы машина действовала»7. 3) «Так художники не скупятся на краски, дабы картина жила»8.
В приведенных примерах мы не наблюдаем исторической отсылки или оттенка возвышенности. В то же время замена союза дабы на нейтральное чтобы нивелирует компонент пожелания, волеизъявления в семантике предложения. Ср.: «Ведь спасение, оказание первой помощи и лечение – это три основных постулата, которые нужно применять быстро, чтобы спасти жизнь человеку». «Так художники не скупятся на краски, чтобы картина жила».
В следующем построении наряду со значением желательности со стороны тех, о ком говорится в предложении, присутствует оценочная позиция автора:
«Интеллектуалы на Западе давным-давно уже занимаются “прозаическими делами”… зарабатывают всеми возможными путями деньги, чтобы строить красивые и добротные дома, откладывать деньги на черный день, дабы дети и внуки могли “стричь купоны”, не впадая в нищету в случае жизненных неудач, дабы жены могли сами воспитывать своих детей, а не отдавать их под присмотр часто полуграмотных и нерадивых вос-питательниц»9.
Как и в примерах, рассмотренных выше, в данном предложении союз дабы указывает на устремления, пожелания участников описываемых событий. В то же время его ‘возвышенность’ вступает в смысловой конфликт с заниженной лексикой: «прозаическими делами», на черный день, «стричь купоны», впадая в нищету, полуграмотных и нерадивых воспитатель- ниц. Благодаря такому приему читатель замечает неудовлетворительное, критическое отношение автора к поведению его героев, которое передается и самому читателю.
Дихотомия книжное/разговорное исторически присуща русскому языку, благодаря чему «русский литературный язык обладает особыми стилистическими возможностями для выражения абстрактного, обобщенного, а также возвышенного поэтического содержания» [13: 188]. Органическое сочетание элементов книжности и разговорности как на лексическом, так и на синтаксическом уровне умело используется авторами в целях стилизации. На наш взгляд, такое сращение, своего рода лингвистический симбиоз, наиболее выпукло проявляется в публицистике, о чем свидетельствует вполне уместное использование авторами лексических и синтаксических средств с целью создания тропов – неотъемлемой характеристики публицистического стиля.
Рассмотрим предложение с союзом дабы , в котором наряду с исторической коннотацией присутствует ирония:
«Шведские эксперты не хотели возвеличивать “омужичившегося” графа Льва Николаевича, дабы оградить от воздействия опасного русского варварства европейскую цивилизацию»10.
Иронический оттенок здесь создается за счет использования эмоционально окрашенной оценочной лексики в контрастном контексте ( «омужичившийся» граф, опасное русское варварство – европейская цивилизация). Противопоставление буквального смысла слов и истинного значения высказывания, излишняя пафосность, привносимая подключением ‘высокого’ книжного союза дабы , позволяют создать обличающий скрытый смысл, противоположный позитивному контексту. Таким образом, автор прибегает к иронии, чтобы в иносказательной форме выразить свое негативное отношение, подчеркивая нелепость и комичность описываемой ситуации.
Приведем пример, в котором описываются события из современной жизни, без отсылки к истории:
«(Охваченные первоначальной перестроечной эйфорией, разве не уверовали и мы в то, что есть чудотворные методы преподавания, способные перевернуть всю школу? ) И разве не бросились в далекие и близкие города, дабы узреть секреты эти, которыми владеют тамошние маги и кудесники от педагогики…»11.
Как видно, в данном построении книжный союз дабы контрастирует на фоне преобладающей оценочной лексики как в самом, так и в предшествующем ему предложении (перестроечной эйфорией, разве не уверовали, чудотворные методы, перевернуть, бросились, тамошние маги и кудесники). Таким образом, создавая иронический эффект, автор выражает негативную оценку описываемой ситуации.
В следующем предложении ирония доведена до сарказма:
«Поэтому либералу, барыге можно все – можно впаривать пенсионерам лежалый товар, можно проколоть колеса крестьянину, который решил продавать картошку с лотка, можно, шелохнув мизинцем, менять русское быдло на нерусское, дабы снижать издержки»12.
Данное высказывание, буквально насыщенное заниженной оценочной лексикой, словно «выкрикивает» субъективное неприятие и осуждение автора, подвергающего жесткой критике уродливые явления действительности. Подключение к целевому придаточному союза дабы , несомненно, является здесь стилистически релевантным, усиливая саркастический эффект. Ср.: «... менять русское быдло на нерусское, чтобы / для того чтобы снижать издержки».
Приведем пример, в котором дабы маркирует парцеллированное придаточное, что придает ему оттенок присоединительности, субъективного дополнения, имплицитно указывает на ироническое отношение автора к целевым, побудительным мотивам разработчиков некоей «Единой обязательной идеологии»:
«Установление Единой обязательной идеологии автоматически вызовет (потребует!) полную отмену существующего разнобоя во всем, что относится к нематериальной стороне жизни страны, государства, общества. Дабы не было того, что называют разнообразием или многообразием»13.
Очевидно, что именно союз дабы придает парцеллированному придаточному эффект язвительного замечания.
Следующее построение обращает на себя внимание неслучайным, умелым сочетанием стилистически окрашенного дабы и нейтрального чтобы при оформлении однородных придаточных:
«Но что важнее: дабы ученик знал, что Пушкин чувства добрые лирой пробуждал, или чтобы эта лира отозвалась в юной душе?»14
Все предложение представляет собой полемический альтернативный вопрос. Первое придаточное, введенное книжным союзом дабы , приобретает оттенок возвышенности, которая выглядит излишней на фоне второго, «безоце-ночного» придаточного, стандартно прикрепленного нейтральным союзом чтобы . Благодаря такому оформлению содержание второго целевого компонента, альтернативно представленного автором в виде вопроса, воспринимается как норма. Данный пример интересен еще и тем, что демонстрирует стилистические возможности синтаксиса без, так сказать, специальной или сопутствующей лексической поддержки, поскольку здесь нет стилистически отмеченной лексики. Таким образом, лишь средствами синтаксиса автор имплицитно маркирует свою позицию и предпочтение, искусно и ненавязчиво указывает на правильный выбор в предложенной им альтернативе.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы описали все обнаруженные нами случаи употребления союза дабы в исследуемом корпусе целевых СПП. Они свидетельствуют о мотивированном выборе авторами данного языкового средства в соответствии с коммуникативной установкой / интенцией. На примере анализа конструкций с устаревшим союзом дабы показано, что использование нетипичных средств связи коррелирует с основными функциями публицистического стиля (информационной, оценочной, побудительной, воздействующей) и, таким образом, является стилистически оправданным. Журналисты обращаются к таким средствам с целью маркировки высокого стиля, добавления исторического колорита, придания шутливого или комического оттенка, создания приема иронии или сарказма, привнесения дополнительных смысловых элементов.
Список литературы Функционирование целевого союза дабы в публицистике XX-XXI веков: исторический и коммуникативный аспекты
- Апресян В . Ю., Пекелис О. Е. Подчинительные союзы. Материалы для проекта корпусного описания русской грамматики. На правах рукописи. М., 2012 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// rusgram.ru/Подчинительные_союзы (дата обращения 30.06.2020).
- Беднарская Л. Д. Основные закономерности в развитии сложного предложения в языке русской художественной прозы Х1Х-ХХ столетий: Монография. Орел: ФГБОУ ВПО «Орловский государственный университет», 2014. 170 с.
- Борковский В . И., Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. М.: Наука, 1965. 555 с.
- Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. М.: Учпедгиз, 1954. 468 с.
- Галкина Н . П . Роль и место устаревших союзов в современной публицистике // Известия Смоленского государственного университета, 2021. № 1 (53). С. 86-101. DOI: 10.35785/2072-9464-2021-531-86-101
- Галкина Н. П. Причинный союз ибо: устаревший или незаслуженно забытый? // Актуальные вопросы современного языкознания и тенденции преподавания иностранных языков в неязыковом вузе: теория и практика: Сб. статей и тезисов выступлений межвуз. науч.-метод. семинара преподавателей иностранных языков. Кострома: Военная академия радиационной, химической и биологической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко, 2020. С. 83-92.
- Историческая грамматика русского языка. Синтаксис. Сложное предложение / Под ред. акад. В. И. Борковского. М.: Наука, 1979. 464 с.
- Кузнецов С. Н. Языкознание и интерлингвистика: программы лекционных курсов (МГУ им. М. В. Ломоносова, 1997-2014) // Современная наука. 2014. № 1. С. 45-63.
- Проект корпусного описания русской грамматики [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://rusgram. ru (дата обращения 23.12.2019).
- Русская грамматика: В 2 т. / Гл. ред. Н. Ю. Шведова. Т. II. Синтаксис / Е. А. Брызгунова, К. В. Габучан, В. А. Цикович и др. М.: Наука, 1982. 709 c.
- Солганик Г. Я. Стилистика текста: Учеб. пособие для студентов, абитуриентов, преподавателей-филологов и учащихся старших классов школ гуманитарного профиля. 3-е изд. М.: Флинта: Наука, 2001. 253 с.
- C теценко А. Н. Исторический синтаксис русского языка: Учеб. пособие для пед. ин-тов и филол. факультетов ун-тов. Изд. 2-е, испр. и доп. М.: Высш. школа, 1977. 352 с.
- Успенский Б . А. Краткий очерк истории русского литературного языка (XI-XIX вв.). М.: Гнозис, 1994. 240 с.