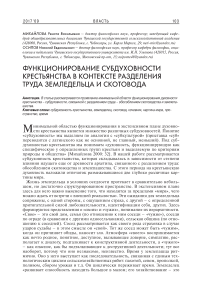Функционирование субдуховности крестьянства в контексте разделения труда земледельца и скотовода
Автор: Михайлова Рената Васильевна, Осипов Николай Евдокимович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 9, 2017 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается проявление минимальной области функционирования духовности крестьянства - субдуховности, связанной с разделением труда - обособлением скотоводства и землепашества.
Субдуховность крестьянства, земледелец, скотовод, кочевник, картина мира, пространство, время
Короткий адрес: https://sciup.org/170168901
IDR: 170168901
Текст научной статьи Функционирование субдуховности крестьянства в контексте разделения труда земледельца и скотовода
М инимальной областью функционирования в экстенсивном плане духовности крестьянства является множество различных субдуховностей. Понятие «субдуховность» мы выделяем по аналогии с «субкультурой» (приставка «суб» переводится с латинского как не основной, не главный, меньший). Под субдуховностью крестьянства мы понимаем «духовность, функционирующую как специфическую у определенных групп крестьян и выделяемую по критериям природы и общества» [Михайлова 2000: 32]. В нашей работе рассматривается субдуховность крестьянства, которая складывалась в зависимости от степени влияния идущего еще от древности архетипа, связанного с разделением труда: обособлением скотоводства и землепашества. С этого периода на крестьянскую духовность наложили отпечаток размежевавшиеся две глубоко различные картины мира.
Жизнь земледельца в условиях оседлости протекает в сравнительно небольшом, но достаточно структурированном пространстве. В экстенсивном плане здесь для него важно выяснение того, что находится за пределами «мира», чего можно ждать от встречи с внешней реальностью. Эти ожидания для земледельца сопряжены, с одной стороны, с ощущением страха, с другой – с определенной притягательной силой любознательности, идентификации себя, других. Здесь формируются представления о «своих» и «чужих», понимание их иерархичности. «Свое» – это свой дом, семья (по отношению к ним соседи – «чужие»), соседи по ограде (в сравнении с другими односельчанами), сельская община (по отношению к соседней). Сосед рассматривается как своего рода страховка в случае ударов судьбы – в этом смысле он «свой». Тот же сосед может быть «чужим», когда он причиняет обиды, наносит зло. Атмосфера «своего» воспринимается как нечто родное, понятное, доступное, вызывающее доверие, симпатию, располагает к диалогу, подталкивает к конструктивной деятельности, а «чужого» – как опасное, как бы подталкивающее к деструктивной деятельности; тут все наоборот, потому что оно незнакомо, неизвестно. Время у землепашца ритмично. Оно у него выступает как последовательность, связанная с единым технологическим циклом сельскохозяйственных работ: пахотой, севом, прополкой, поливом, сбором урожая и т.д. Он циклически переживает время. Земледелец «развивает способность находить большое в малом; его хозяйствование – это цепь дифференцирующих усилий, с помощью которых он непрерывно дробит, интенсифицирует пространство, насыщая каждую его клеточку трудом. Он не ждет чуда, прерывающего ход времени: его духовная стабильность (включающая уравновешенный ум, умение сосредоточиваться, терпеливо ожидать. – Р.М., Н.О.) сродни тем чередующимся и ритмично воспроизводимым процессам, которые идут в самой природе и составляют предпосылку его труда» [Панарин 1994: 175]. Земледелец приспосабливается к определенной местности, высевая тот или иной сорт семян соответствующих культур. Необходимость адаптации требует от него предварительного преобразования действительности в сознании. Он должен учитывать разные обстоятельства, состояние природы и заранее представлять возможные изменения в том, на что направлена его практическая деятельность. Необходимость владения комплексом знаний для земледельца связана с универсальностью (богатством форм) труда на земле, протекающего в самых разнообразных природных, технических, социальных условиях. С помощью своего труда земледелец, адаптируясь к среде, активно ее видоизменяет. Он приспосабливает ее к своим нуждам. Труд земледельца выступает условием всех других форм его деятельности, в частности хорошо продуманного воздействия на природную среду (сельский ландшафт). Своим трудом земледелец оставляет на поверхности земного шара отпечаток особых сочетаний сельскохозяйственного труда. Они свидетельствуют о целенаправленных изменениях природных связей (поле, плантации многолетних культур, лесонасаждения, сеяные луга, леса и т.д.). Так, одна и та же природа может подвергаться одновременному различному хозяйственному и рекреационному использованию и преобразованию.
Сказанное позволяет делать вывод, что повседневность у земледельца довольно нудная, связанная с унылой монотонностью его жизни и труда. Его ежедневные усилия лишены трагического пафоса, а ожидаемые итоги не так впечатляющи, чтобы вызвать эйфорию. Он не знает «великих времен», «великих пространств». Заботясь о будущем, он забывает о настоящем, которым мог бы наслаждаться. У него сформировались устойчивые понятия «своей земли», «родины» и т.д. В нем укоренился дух провинциала в детально регламентированном мире покоя.
Иные картина мира и социально-психологические характеристики свойственны скотоводам. Их жизнь протекает в относительно большом пространстве. Для них мир – это мир движения, динамики. У них пространство-время протекает специфично. Освоение ими огромного пространства представляет экстенсивный тип «поверхностного глобализма» [Панарин 1994: 175]. Скотоводы, меняя поселения, не привязаны к пространству. Они могут за короткое время сняться с места стоянки (разобрать юрту, собрать и уложить имущество, навьючить животных и т.д.) и перекочевать на новое место. К пространству они относятся как к временному месту пребывания (с этим связано то, что среди них «специальная собственность на землю как таковая обладала незначительной ценностью» [Барфилд 2009: 31]), не выделяют в нем малые формы, предназначенные для углубленного возделывания. Так, поля (земледельцев) обращались в пастбища, если появлялась возможность увеличения пастбищных территорий. Модели организации жизни на определенной территории-пространстве не могли укорениться в подвижном, кочевом образе жизни скотоводов. Так, города кочевников были обречены на вымирание, когда связь с земледельческими общинами разрушалась. Это было так потому, что «города кочевников не были естественным итогом развития сельского хозяйства. Скорее, города номадов строились по приказу сверху и функционировали как центры по сбору налогов и дани» [Барфилд 2009: 129]. Города кочевников представляли «цветы растения», корни которого находились в цивилизации оседлых земледельцев [Барфилд 2009: 130]. Исследователи отмечают редкость грабежей и стремления завоевать террито- рии соседей-земледельцев. Кочевники не умели организованно управлять территориями [Барфилд 2009: 19, 21]. Уместно высказывание римского философа Сенеки: «тот, кто всюду, тот нигде» [Сенека 2012: 9]. Кочевник почти не замечает окружающего его во время стоянок пространства малых форм – он устремлен дальше, за горизонт, в новое большое пространство (ему нужно много земли для пастбищ), куда предстоит перекочевать. Причиной поселенческой мобильности кочевников-скотоводов является их адаптированность к нуждам стада. Для скота требуется подножный корм. С этим связана экологическая детерминированность в зависимости от ландшафтных и климатических особенностей, которая вынуждает мигрировать скотоводов от одного сезонного пастбища к другому в течение годового цикла.
Представления о «своих» и «чужих» у кочевых скотоводов имеют свои особенности. «Свое» – это своя семья (домохозяйство), размер которой определялся по числу юрт, и кочевая группа; родственные группы, в которые помимо семьи входили роды, кланы, племена (родовая община). Родственные связи создавали чувство солидарности, обеспечивая своим членам защиту в ситуациях тревог, опасностей, риска (они тотально сопровождали жизнь кочевых скотоводов). «Чужими» могли быть, например, соседние группы более дальних родственников и проживающих на определенном отдаленном расстоянии; близкие родственники, находящиеся с ними в оппозиции в семейных спорах, часто могли совершать на них набеги с целью добычи – угона скота, но в то же время и близкие, и дальние родственники часто могли объединиться в борьбе против «чужаков». «Чужими» могли быть и оседло-земледельческие народы, когда осуществлялись их дистанционная (внешняя) эксплуатация (набеги), вымогательство (насильственное изъятие продуктов сельского хозяйства, ремесла, предметов роскоши, денег и т.д.) с целью получения прибавочного продукта, а также взимание дани. Те же оседлые соседи-земледельцы могли быть «своими», когда речь шла о налаживании и ведении торговли, устойчивых экономических отношениях с ними в целях получения доступа к источнику материальных благ. Обмен деятельностью, ее продуктами и информацией между скотоводами и земледельцами выступает жизненным условием для них. Нам представляется, что пониманию иерархичности «своих» и «чужих» у скотоводов-кочевников способствовали не столько внутренние процессы, происходившие в родах, кланах, племенах, сколько влияние контекста внешних связей.
Специфично у скотоводов-кочевников и время. Оно здесь имеет качественно обособленные этапы передвижения и стоянок. Кочевки представляли сезонные миграции людей и скота (зима, весна, лето, осень), которые выступали как циклы. Каждому из них свойственны свои особые характеристики. Время у скотоводов выступает как вольный ритм, в котором имеются большие циклы, включающие и внутри, и между собой большие «зазоры». Время у них «лукавое»; в нем заключена соблазнительная прерывность, провоцирующая на «большие скачки», на перепрыгивание этапов. Так, когда появлялась возможность перекочевать на летние пастбища, кочевники, живущие в предгорьях, могли отправляться еще выше в горы, где после таяния снегов и выпадения дождей цветущие новые пастбища напоминали о «второй весне». Более «продолжительное» время весны имело значение для создания условий прибавления в весе скота. Когда осенью и работы скотоводческого цикла в целом завершены, и земледельцы заканчивали сбор урожая, для кочевников было соблазнительным совершать набеги на земледельческие регионы с целью изъятия у них зерна для выживания в зимнее время. Таким образом, культура скотоводов включает в себя особый тип скачкообразного времени, в корне отличающийся от земледельческой ритмики.
Из сказанного следует, что и для земледельца, ведущего оседлый образ жизни, и для скотовода, осуществляющего кочевой образ жизни, пространство и время были тесно связанными понятиями. При этом в картине мира земледельца пространство понимается интенсивно, время – экстенсивно; у скотовода – наоборот: пространство у него экстенсивно, время – интенсивно. Различия в картинах мира, ценностных ориентациях земледельцев и скотоводов делали проблематичными взаимоотношения между ними. Это касалось проблем экономической, политической, социальной жизни, взаимного культурного непонимания.
Поиск национально-региональных особенностей требует от нас рассмотрения того, в какой мере разделение труда скотоводов и землепашцев сказывается на специфике крестьянской духовности России ХХI в. Согласно формационному подходу, признающему лишь последовательность и закономерные этапы развития, история развивается по восходящей линии. Отсюда в человеческой истории доминирует формационная прерывность. Поэтому картины мира, возникшие в древности, едва ли могут присутствовать в картине мира крестьянства ХХI в. Через этот подход трудно увидеть также целостность человека во времени. Однако в экзистенциальном плане крестьянам ХХI в. близок опыт древних скотоводов и земледельцев как подлинная, нестилизованная возможность, и потому они переживают его как частицу собственного. Несмотря на то что ход истории всегда накладывает определенный отпечаток на эти два типа мировоззрения, всегда сохранялись интенции каждого из них. О протестантской герменевтике, построенной на принципе непосредственного диалога всех эпох с Богом, дающей экзистенциальную интерпретацию архетипам культуры, А.С. Панарин пишет: «…человек в любую эпоху готов откликнуться на любую из возможностей (курсив наш. – Р.М., Н.О. ); его связь со своим временем и его “достижениями” не является жестко неразрывной» [Панарин 1994: 149].
Мы согласны с исследователем Панариным в том, что человек в любую эпоху готов откликнуться на любую из возможностей. Применительно к нашей теме речь идет о возможностях, представляемых двумя различными типами мировоззрения – земледельца и скотовода, если этого требуют ситуации повседневной жизни. В состоянии сиюминутного эмоционального напряжения и переживания бытия человек может быть всецело захвачен экзистенциальными феноменами. Последние находят отражение в таких категориях («экзистенциалах», по М.Хайдеггеру) человеческого бытия, как «труд», «добро», «любовь», «надежда», «забота», «доверие», «страдание», «справедливость» и др. «По существу экзистенциальные категории выражают интенции-переживания (термин наш. – Р.М .) души» человека [Михайлова 2015: 126]. В состоянии, когда человек пребывает один на один со своими трудноразрешимыми проблемами («несчастьями»), он может откликнуться на идущие от древности архетипы культуры земледельца и скотовода. В них имеются способы разрешения проблем повседневной жизни человека, обладающие своими особенностями. В интенциях-переживаниях отражено особенное соотношение предметов и понятий, общих для всех людей и культур, но проявляющихся специфически в мировоззрении земледельцев и скотоводов.
Список литературы Функционирование субдуховности крестьянства в контексте разделения труда земледельца и скотовода
- Барфилд Т. Дж. 2009. Опасная граница: кочевые империи и Китай (221 г. до н.э. -1757 г. н.э.) (пер. с англ. Д.В. Рухлядева, В.Б.Кузнецова; ред. и пред. Д.В. Рухлядева). СПб. 248 с
- Михайлова Р.В. 2000. Духовность крестьянства как всеобщий способ его самовыражения: автореф. дис. … д. филос.н. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова. 53 с
- Михайлова Р.В. 2015. Крестьянин как субъект переживания в «пограничных ситуациях». -Духовная сфера общества: сборник статей по итогам НИР кафедры философии и политологии за 2014 год (под ред. В.Б. Голубева). Йошкар-Ола: МарГУ. Вып. 12. С. 124-134
- Панарин А.С. 1994. Философия политики: учебное пособие для политологических факультетов и гуманитарных вузов. М.: Наука. 367 с
- Сенека Л.А. 2012. Письма о жизни и смерти (под ред. В.П. Бутромеева, В.В. Бутромеева). М.: ОЛМА Медиа групп. 304 с