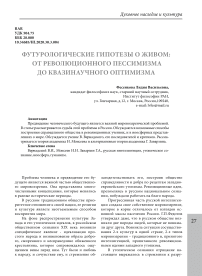Футурологические гипотезы о живом: от революционного пессимизма до квазинаучного оптимизма
Автор: Фесенкова Лидия Васильевна
Журнал: Культурное наследие России @kultnasledie
Рубрика: Духовное наследие и культура
Статья в выпуске: 3, 2020 года.
Бесплатный доступ
Предвидение человеческого будущего является важной мировоззренческой проблемой. В статье рассматривается судьба этой проблемы в России. Обсуждаются возможные способы построения справедливого общества в революционных учениях, и в ноосферных представлениях о мире. Обсуждается учение В. Вернадского, его последователей и критиков. Рассматривается теория академика Н. Моисеева и альтернативная теория академика Г. Заварзина.
Вернадский в.и, моисеев н.н. заварзин г.а, русская интеллигенция, утопическое сознание, ноосфера, гуманизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170174219
IDR: 170174219 | УДК: 504.75 | DOI: 10.34685/HI.2020.30.3.004
Текст научной статьи Футурологические гипотезы о живом: от революционного пессимизма до квазинаучного оптимизма
Проблема человека и предвидение его будущего является важной частью общественного мировоззрения. Она представлена многочисленными концепциями, которые менялись в разные исторические периоды.
В русском традиционном обществе приоритетное отношение к своей нации, ее религии и культуре являете неотъемлемым способом восприятия мира.
На фоне распространения культуры Запада и его утопических идеалов, в российском общественном сознании XIX века возникло специфическое явление - идеализация простого народа и возникновение образа доброго, смиренного и несправедливо обиженного крестьянина, которое сопровождалось ощущением вины перед ним. Тут были и любовь к народу, и сочувствие ему, и стремление об- лагодетельствовать его, построив общество справедливости и добра по рецептам западноевропейского утопизма. Революционные идеи, преломляясь в русском национальном сознании, побуждали работать на благо народа.
Прогрессивная часть русской интеллигенции создала свое собственное мировоззрение, которое в корне отличалось от взглядов основной массы населения России. Г.П.Федотов утверждал даже, что в русском обществе возникли две породы людей, которые не понимали друг друга. Возникла ситуация сосуществования 2-х культур в одной стране, 2-х типов мировоззрения – традиционного и, принятого интеллигенцией, пропитанного революционными идеями западного утопизма.
В утопическом сознании отрицание настоящего выражалось в стремлении к разру- шению реального бытия для замены его идеальной конструкцией, поскольку достижение социального идеала возможно лишь через глобальную ломку предшествующего бытия. Разрушению подлежало государство, семья, религия, мораль. А в своих крайних формах русский революционный утопизм замахивался не только на социальное устроение общества, но и на мировые законы: выдвигались проекты переделки общества и реального человека и создания совершенного человека и совершенного общества – вот идеи, которые носились в воздухе того времени. Русские революционеры жили убеждением, что разрушив все традиционные общественные устои и освободившись от всяких правовых ограничений, народ сможет разумно устроить свою жизнь и утвердить общественную правду.
Образ такого будущего, возникшего в умах русской интеллигенции начала XX века описывает Н. Валентинов (Н. Вольский): «За взрывом и социализацией средств производства обязательно последует «скачек из царства необходимости в царство свободы и - свободы полной». Тогда «...произойдет психологическая трансформация личности – «Я» стирается, его постепенно замещают «мы». Произойдет «радостно ощущаемый выход из своего узкого «я» в широкий мир коллективной души»1. Таково предвидение будущего человечества в представлениях русского революционера2.
Но, работая на народ, и самозабвенно жертвуя собой во имя его блага, интеллигенция не принимала культуру своего народа, не считалась с его нормами и верованиями, сложившимися в течение многовековой истории Руси. Она заняла позицию учителя народа, стремилась разрушить старые и утвердить чуждые для народа ценности, к тому же сильно идеализированные.
Эта вера в светлые идеалы сопровождалась жаждой уничтожения всего, стоящего на пути осуществления утопической мечты о счастье человечества. Политические убийства молчаливо принимались русской общественностью и не омрачали убеждения в святости револю-
Там же. С.154.
ционеров в глазах общественного мнения, хотя террористические акты уносили много невинных жертв.
Интеллигенция распалила темные инстинкты масс, что привело к уничтожению «самых последних, самых элементарных основ общежития» – писал И.А. Покровский3 – один из авторов сборника “Из глубины”, в котором подводились печальные итоги революционной деятельности интеллигентов. Известный лозунг «грабь награбленное» был логическим завершением бесчисленных призывов нескольких поколений революционеров, звавших народ к топору.
Февральская революция 1917 года была встречена восторженно. Интеллигенция приветствовала ее как скорое наступление эры Добра и Справедливости. Ликование было всеобщим: государственный строй опрокинут, царь отрекся от престола и освобожденный народ наконец-то приступит к созданию общества Свободы.
Но победа революции привела к неожиданным последствиям. Державный народ повел себя вовсе не так, как ожидала интеллигенция. Начались кровавые бунты в армии и во флоте, многочисленные погромы в губерниях. Погибли видные революционные деятели А.И. Шингарев и Ф.Ф. Кокошкин, растерзанные матросами. Жить становилось страшно.
Придя к власти, большевики принялись осуществлять модель нового общества. Оно представлялось как полное имущественное равенство – обобществление достояния горожан и отмене денег. В соответствии с принципами коммунизма они отменили деньги, банковские вклады, запретили торговлю. Страна оказалась перед лицом голода.
Революция показала, что ничего нет страшнее осуществленной утопии. Когда умозрительная схема социализма накладывается на реальность и вся глубина и сложность жизни должна быть подчинена рационалистической концепции, всегда упрощающей действительный мир. Тогда утопия оборачивается своим страшным ликом. Утопический план создания земного рая (хотя и является плодом тысячелетней работы выдающихся умов человечества) исключает возможность существования реального, а не вы-
3 Покровский И.Э. Перуново заклятие / Вехи. Из глуби мышленного человека, поскольку принципы его построения входят в непримиримое противоречие с самими законами биологической и социальной жизни.
С победой революции коммунистическая утопия произвела полный разгром процветающей страны. Разрушались религия, семья, торговля, собственность. Рушились привычные ценности как высших, так и низших сословий. Рушились православные заветы старой Руси, разрушались поведенческие нормы и моральные установки европеизированной аристократии, дворянства, интеллигенции, крестьянства. Жизнь человека стремительно теряла свою ценность. Наступал революционный хаос.
Разочарование интеллигенции было безмерным. Вместо царства Добра и Справедливости возникло царство Хаоса и Смерти.
«Лежим, заплеваны и связаны /По всем уг-лам./Плевки матросские размазаны/У нас по лбам». Так бросала свое обвинение Зинаида Гиппиус4.
Потрясенная разгулом разрушительных страстей, она обвиняла теперь народ в творящемся зле. Она обвиняла и большевиков в обмане народа: «Главные вожаки большевизма – к России никакого отношения не имеют и о ней меньше всего заботятся. Они ее не знают – откуда? Но они нащупывают инстинкты, чтобы их использовать в интересах своих или германских, только не в интересах русского народа»5.
Воспитанная на любви и сострадании к народу, обожествляя его, интеллигенция создала идеал, весьма далекий от действительности. Она ошиблась в народе, который не соответствовал идеальному образу мужика, придуманному ею, под воздействием утопических концепций, Запада. И, поскольку реальный народ не соответствовал этому идеалу, она отшатнулась от него и кинулась в другую крайность – обвинила его во всех грехах. В глазах интеллигенции народ из мученика и святого превратился в раба и хама. И не человека даже, а в какое – то темное «человекоподобное» (Л. Андреев). Обвинения в адрес русского народа исходили не только от Леонида
Андреева и Зинаиды Гиппиус, но и других столпов русского менталитета того времени – от Бердяева, Мережковского и многих, многих других. Но надо помнить, что темное начало в человеке проявляется всегда, когда рушатся социальные устои любого общества. Ужасы революции не были связаны с национальными особенностями народа и степенью его культурности. Так, наиболее культурный (по общему признанию) французский народ так же яростно расправлялся со своими аристократами и священниками во время Великой Революции.
Октябрьский переворот русская интеллигенция в своем большинстве восприняла как внешнее насилие, осуществленное большевиками с помощью немцев (эстонцев, евреев, криминальной части населения и т.д.), не связанное с процессами, протекающими в менталитете самого русского общества. При этом упускалось из виду, что большевики – это органическая часть самой интеллигенций, та часть, которая не отшатнулась в ужасе от плодов своей деятельности, но приняла их как должное. Большевики только реализовали утопические идеи, которым интеллигенций служила десятки лет. Реформы большевиков проводились не в интересах народа, а в соответствии с планами построения коммунизма во всем мире. Русский народ был лишь материалом для проведения этого эксперимента.
Так в годы революции, как и в эпоху Петра, еще раз были проведены преобразования совершенно чуждые русскому народу. Идеалы, питавшие общественное сознание многие годы, при их воплощении оказались далекими от реальности. Вера в коммунистическое будущее оказалась несостоятельной. Для большинства русской интеллигенции она отождествлялась с ужасами насилия. Это была духовная катастрофа.
И все же потребность в идее лучшего будущего, заложенная в самой природе человека, его изначальное стремление к справедливости и добру, порождали другие светлые представления о будущем. Эта духовная потребность как важнейшая характеристика национального сознания, остается и поныне, хотя она изменила свою форму. С утратой популярности идеи коммунизма русский человек создал утопические конструкции, такие как проект воскрешения отцов Н. Ф. Федорова, представления К. Э. Циолковского о будущем космическом совершенстве человечества, идеи В. И. Вернадского о ноосфере и автотрофности будущего и многие другие. Современная утопия предстает здесь в виде научной гипотезы. Ярким примером этого является ноосферная концепция В.Вернадского, которая вобрала в себя стремление к построению справедливого общества.
Вернадский исходил из целостного видения жизни, где действуют законы единые для всей природы и общества. Совершенствуется и усложняется не только жизнь (принцип цефализации), но и человечество.
Демократические преобразования, гуманизация общественных отношений – это, по Вернадскому, проявление всеобщего закона природы. Он считал, что разум вписан в эволюцию жизни, развивается по ее законам и выполняет ее цели. Отсюда вытекает неодолимость возникновения ноосферы, как закономерного этапа развития биосферы. Разум по Вернадскому заведомо благ, созидателен и охранителен, но не разрушителен. Сама природа без человека не в состоянии сохранить свою организованность. И поэтому для своего сохранения природа создает человека с его разумом и наукой и человек выполняет ее назначение6.
По мнению Вернадского, в этих процессах особую роль играет наука. Он пишет: «К началу XX в. появилась в ясной реальной форме возможная для создания единства человечества сила – научная мысль. Это – сила геологического характера, подготовленная миллиардами лет истории жизни в биосфере. Она выявилась впервые в истории человечества в новой форме, с одной стороны в форме логической обязательности и логической непререкаемости – ее основных достижений и, во-вторых, в форме вселенскости, – охвате ею всей биосферы, всего человечества, в создании одинаковой стадии ее организованности – ноосферы. Научная мысль впервые выявляется как сила, создающая ноосферу, с характером стихийного процесса»7. Он считал, что по достижении ноосферной стадии развития, человек станет автотрофом. При этом автотрофность Вернадского особая – «социальная автотрофность». Человек ноосферы будет синтезировать пищу и переста- нет питаться растительной пищей. Изменится существующий порядок бытия, при котором автотрофы и гетеротрофы связаны в единую систему.
Вернадский отошел от заявленной им позиции натуралиста и в фундамент своей концепции положил представления не научного, а мировоззренческого характера. Центральные положения ноосферной гипотезы Вернадского вырастают на мировоззренческих представлениях об устройстве мироздания, вершиной которого оказывается гармоническое общество. В результате получается смешение философской и естественнонаучной аргументации. Как отмечали критики мировоззренческой позиции Вернадского «что присущий натуралисту способ мышления способен прокрадываться в область философского размышления и привносит туда заработанный в совсем другой области авторитетов… В результате чего декларативно заявленные положения будто бы обретают силу научной истины»8. С одной стороны это представления науки, которые базируются на выводах естествознания, а с другой стороны это мировоззренческие концепты, создаваемые на основе веры, т.е. принятие постулатов без доказательств и, приобретая статус фундамента научной картины мира, на деле оказываются недостаточно обоснованными.
Учение Вернадского получило широкое распространение. Идеи ноосферного будущего человечества и влияния Разума на биосферу приняли многие видные ученые. Академик Н.Н. Моисеев, В.П. Казначеев, А.Д. Урсул, А.И.Субетто, Ф.Т. Яншина и др. в своих трудах создавали свое понимание ноосферы.
Так академик Н.Н. Моисеев разрабатывал концепцию ноосферного будущего человечества. Он считал, что согласованность природной среды и общества может быть осуществлено Разумом и волей Человека. Он ввел термин «эпоха ноосферы» – этап истории, когда Коллективный Разум человека и его Коллективная Воля будут способны обеспечить коэволюцию, (совместное развитие природы и общества) и управлять процессами самоорганизации биосферы. Для этого нужно создать новые основы нравственности. «В основе теории ноосферогенеза, писал он, – должны лежать новые принципы нравственно- сти, новая система нравов, которая должна быть универсальной для всей планеты, при всем различии цивилизаций и народов, которые ее населяют. Надо начать серьезно разрабатывать новую структуру общественных отношений для единого планетарного сообщества»9. Он считал, что перед человечеством стоит цель - превращения биосферы и общества в единый организм для обеспечения гомеостазиса человека и дальнейшего развития общества. Для этого необходимо создать Совет мудрецов, который «должен формироваться из выдающихся ученых различных профессий», так как «важнейшая цель человечества заключается в том, чтобы предпринять все возможные усилия, для утверждения на планете информационного общества, как условия необходимого для продолжения своей истории в качестве нового этапа в истории Земли»10.
Дальнейшее развитие идеи Вернадского получают и в концепции А.Д. Урсула. Он полагает, что формирование ноосферы может реализоваться только через устойчивое развитие (УР). «УР, как социоприродный феномен, требует для своего эволюционнобезопасного продолжения, вмешательства разума, который в ноосферной форме продолжит магистральную линию универсальной истории Вселенной». Понятие ноосферы выступает здесь как конечная цель движения по пути устойчивого развития11.
Идеи Вернадского развивает и Ф.Т. Яншина. Она полагает, что ноосфера «это такая стадия эволюции биосферы Земли, на которой в результате победы коллективного человеческого разума начнут согласованно развиваться человек как личность; объединенное человеческое общество, и целесообразно преобразованная людьми окружающая природная среда»12. Очевидно, что старая как мир идея построения идеального общества до сих пор владеет умами наших современников.
Анализ ноосферных проектов показывает, что все они построены на предпосылке о раз- умности человека и его гуманизме. Это составляет исходное (неявное) основание также многих экологических моделей. Такая установка не анализируется, а просто принимается, как само собой разумеющаяся. Например, проекты трансформации сознания, разрабатываемые теоретиками Римского клуба (1972 – 1997 гг.), опираются на убеждение о внутренней доброте и альтруистичности человека.
Отсюда вытекают провозглашаемые ими идеи «гуманистического сознания» и гуманистической революции13. Такие представления вошли в арсенал научной мысли в решении многих ноосферных и экологических проблем.
Основание всеобщей убежденность в разумности, доброте и гуманности человека нужно искать в глубинах психики познающего субъекта. Модели устойчивого развития и ноосферо-генеза «держатся» на безграничной вере ученых в силу человеческой рациональности, и в силу нравственной, духовной компоненты человека, на его способности к разумному объединению перед лицом грозящей ему смертельной опасности, отказа от личной выгоды во имя общего дела при построении справедливого общества будущего. При этом отбрасываются представления о зле в человеческой природе, загадка глубин человеческой психики. Мечта о построении социального рая на земле - это архетипическая черта, восходящая к психологическим свойствам человеческой природы.
Модели будущего изначально завязаны на ценностях, зависят от мировоззренческих представлений эпохи, а также от ценностных предпочтений или религиозных убеждений ее создателя. Эти общие представления могут вывести человека за рамки научного понимания и обратить его к представлениям обыденного сознания и даже квазинауки, когда реальность игнорируется.
А реально экологи фиксируют разрушительные антропогенные воздействия на окружающую среду: они утверждают, что наша планета находится в опасности. И что в результате деятельности человечества возникнет не ноосфера, а техносфера. В этой связи нарастает пессимизм и разочарование в идее ноосферы, рождаются новые концепции возникновения жизни и человечества.
Академик Г.А. Заварзин рассматривает проблему жизни и ее происхождения вне ноосферо-генеза.
Он построил свою концепцию происхождения жизни, полагая, что в процессе исторического развития Земли возникнет отнюдь не ноосфера с ее разумом, а антропогенная экосистема. В своих работах он фиксировал роль человечества в нарушении хода естественных процессов нашей планеты: исчезновение видов и возникновение новых, в результате антропогенных воздействий. В качестве примера он приводит африканскую саванну с минимумом растительности и расставленными по ней термитниками, в которых термиты уничтожили все, включая гумус. По мнению Заварзина примерно так же выглядит человечество с его городами.
Он ввел термин «какосфера» для обозначения области дисгармонического развития, созданной человеком и термин «какология», обозначающий область знания о законах какосферы.
Он исследовал закономерности развития ка-косферы, как отдельной области знания. Он считал, что какосфера возникает под воздействием антропогенного пресса в природе, измененной деятельностью человека, где искажены природные связи и ограничена способность к их восстановлению, что может привести к «дисгармонии в локальном масштабе и к биологическим катастрофам»14.
Он рисовал картину развития жизни на Земле, где все начиналось с примитивного уровня (микроорганизмы). Потом произошло отравление отходами жизнедеятельности примитивных организмов и глобальное изменение биосферы с водородной на кислородную. Возникла многоклеточ-ность, высшие формы жизни и человек. Его разум породил техносферу и начало нового отравления. И новую перестройку всей биосферы. Т.е. отходы жизни снова изменяют биосферу и она приобретет другой характер. Сейчас грядет новая фаза деструкции. Заварзин показал, что закон усложнения живого не универсален, а универсален цикл -точное воспроизведение существующего.
Мы видим, что общая картина мира у Заварзина кардинально отличается от представлений Вернадского и его последователей.
Она порождает выводы противоположные ноосферным ожиданиям счастливого будущего человечества, в которых, возвеличивается человеческий Разум и утверждается его главенствующая роль в построении ноосферы.
Картина мира Заварзина противостоит и мировоззренческим представлениям дарвинизма. Он пишет: «Вырисовывается совершенно иная картина последовательности изменений большой системы, где причинно-следственные связи прокатываются сверху вниз, задавая существенные свойства нижестоящим. По своей сути рассмотренная системная концепция прямо противоположна индивидуалистической концепции дарвинизма»15.
В новой парадигме дарвинистские представления ограничиваются. Конкуренция и селекто-генез действуют только внутри функциональных блоков, в то время как свойства сообщества, задаются системой более высокого уровня, которая определяет направление естественного отбора. Эволюция служит для достижения цели, заданной большой системой. У нее иные закономерности, чем у ее частных компонентов.
По мнению Заварзина дарвинизм – мировоззрение, которое задается социальной психологией. Он считает, что идея выживания наиболее приспособленных и борьба за существование внесены в дарвинизм из мировоззрения английского капитализма: «Тогда в мировоззрении общества господствовала идея превосходства белого человека. Произошло перенесение чувства превосходства белого человека в биологическую область»16. Заварзин делает вывод: «Антропоцентрический взгляд на развитие, цель которого - человек, как наиболее совершенный, конечный результат эволюции, оказывается ложным»17.
Функционирующие в настоящее время в научном мировоззрении многочисленные и разнохарактерные представления о природе жизни и ее развитии часто не дополняют, а отрицают друг друга. Теоретическая модель биологической эволюции не может быть беспристрастным изображением действительности. Все исходные постулаты продиктованы ценностными установками авторов эволюционных теорий, которые прочно завязаны на мировоззренческих идеях, продуцируемых эпохой. Так, номогенетические модели в своей основе содержат понятие цели, как изначально присущей природе живого, в противовес дарвиновской неопределенной изменчивости.
Можно утверждать, что представления о происхождении и развитии жизни включены в систему общих взглядов на мир (какова бы ни была эта система – религиозной, философской, научной) и потому зависят от ее аксиологических ориентаций, она имплицитно связана с предельными представлениями о бытии. Поэтому теория общей эволюции живого неизбежно становится частью мировоззрения. Здесь естественнонаучная теория эволюции выходит в область метафизических проблем, ставя и решая вопросы о природе и сущности человека. Она содержит самооценку человека и дает ему ориентацию в этом мире.
Сегодня возникают новые подходы к проблеме человека. Происходят существенные изменения и в исследованиях закономерностей жизни. Современный этап в развитии наук о живом - это этап быстрого накопления новых данных, многие из которых не вписываются в принятые в науке представления, нередко противоречат друг другу и не объединяются в единую картину. Они создают различное понимание общих закономерностей живого, а значит и человека, общества и перспектив их будущего развития.
Но стоит ли всерьез обсуждать подробности познания будущего природы и судьбы человечества сегодня, когда специфика русского менталитета размывается в новом, потребительском обществе? Есть ли опасность, что национальные особенности исчезнут? Возможно коммерческий интерес нивелирует как научный подход, так и национальную специфику в познании закономерностей жизни, человечества, его высших идеалов.
Исторический опыт показывает – западная культура столетиями включалась в наше миропонимание, но при этом черты «русскости» отнюдь не утратили своего значения. Они, интегрируясь с западной культурой, привели к своеобразному синтезу в нашем мироощущении, которое, развиваясь под влиянием православной духовности, создало новый тип человека – русского интеллигента, мыслящего в западных формах, но духовно сохранившего в себе благородство и жертвенность. Национальная специфика русского менталитета – стремление к высокому идеалу – останется и в современных, модернизированных формах, так же как проявлялся «русский дух» во все времена в произведениях классиков русской культуры – претворение западных идеалов в нечто высокое, в корне отличное от идеала мещанского комфорта, который сегодня обещает нам европейский путь развития.
Список литературы Футурологические гипотезы о живом: от революционного пессимизма до квазинаучного оптимизма
- Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружение. М., 2001.
- Заварзин Г.А. Какосфера. Антипод ноосферы М., 2011.
- Он же. Какосфера. Индивидуалистический и системный подход в биологии. М., 2011.
- Он же. Какосфера Социальный дарвинизм и гетерофобия. М., 2011.
- Он же. Какосфера Бытие и развитие, сукцессия, хаэссеитас. М., 2011.
- Карпинская Р.С. Натуралистическое сознание и космос /Философия русского космизма. М., 1996.
- Моисеев Н.Н.. Быть или не быть человечеству М., 1999.
- Печчеи А. Человеческие качества. М., 1980.
- Урсул А. Д., Урсул Г.А. Социоприрод-ное развитие в универсальной истории // Земля и Вселенная. 2005. №1.
- Фесенкова Л.В. Мировоззренческие и естественнонаучные основания идеи В.И. Вернадского и современность. Ценологические исследования. Вып. 51, М., 2013.
- Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. М., 2005.
- Яншина Ф.Т. Эволюция взглядов Вернадского на биосферу и развитие учения о ноосфере. М. : Наука, 1996.