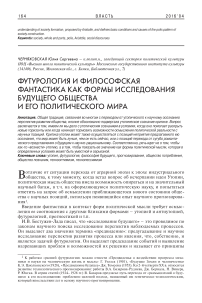Футурология и философская фантастика как формы исследования будущего общества и его политического мира
Автор: Черняховская Юлия Сергеевна
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Идеи и смыслы
Статья в выпуске: 4, 2016 года.
Бесплатный доступ
Общая традиция, связанная во многом с переходом от утопического к научному осознанию перспектив развития общества, вполне обоснованно подвергала утопическое сознание критике. Вопрос заключается в том, имеем ли мы дело с утопическим сознанием в условиях, когда оно помогает раскрыть новые горизонты или когда начинает тормозить возможности осмысления политической реальности с научных позиций. Критика утопии может также осуществляться с позиций неприятия предлагаемого ею осознания, что мир может быть лучше, чем он есть сейчас, или c позиций перехода от сугубо романтического представления о будущем к научно-рациональному. Соответственно, речь идет не о том, чтобы как-то «вознести» утопию, а в том, чтобы показать ее значение как формы политической мысли, которая в определенных условиях может быть уместной и серьезной.
Утопия, футурология, философия будущего, прогнозирование, общество потребления, общество познания, технооптимизм, технопессимизм
Короткий адрес: https://sciup.org/170168364
IDR: 170168364
Текст научной статьи Футурология и философская фантастика как формы исследования будущего общества и его политического мира
В отличие от ситуации перехода от аграрной эпохи к эпохе индустриального общества, к тому моменту, когда встал вопрос об исчерпании идеи Утопии, политическая мысль общества имела возможность опираться и на значительный научный багаж, в т.ч. на оформляющуюся политическую науку, и попытаться ответить на запрос об осмыслении приближающегося нового состояния общества с научных позиций, используя появившийся опыт научного прогнозирова-ния 1 .
Введение фантастики в контекст форм политической мысли требует осмысления ее соотношения с другими близкими формами – утопией и антиутопией, футурологией, прогностикой и т.п.
И.В. Бестужев-Лада писал, что «исследование будущего» – это проводимое по законам научного поиска исследование перспектив наблюдаемых процессов. Он выделяет два значения термина «предвидение»: предугадывание и научное исследование перспектив развития процесса или явления, что, собственно, и является задачей футурологии. Он выделяет предсказание событий и выявление назревающих проблем и возможностей их решения и называет его принципы
[Бестужев-Лада 2000: 24-25]. В.В. Кузин, наряду с наукой о прошлом, выделяет группу наук, занимающихся будущим, – прогнозирование [Кузин 2000: 5] 1 .
М.С. Кальней доказывает, что в анализе соотношения утопии и прогнозирования можно выделить разные этапы и традиции. В рамках первой, классической, как уже говорилось, традиции речь идет о дихотомии, противопоставлении утопии как неистинного, иллюзорного знания социальному прогнозу как целостному и сущностному отражению социального целого. Онтологически утопия противопоставляется прогнозу как «неосуществимая теория» – с необходимостью осуществляемой социальной теории.
Неклассическая модель рассматривает оба явления как средство саморегуляции социальной системы, возможные гносеологические модели ее развития: прогноз – как вид социальной статики, утопию – как вид социальной динамики.
Третья, постнеклассическая модель рассматривает обе формы политической мысли как гипотетико-конструктивный вид знания: социальный прогноз – как идеализированную гносеологическую схему, утопию – как один из вариантов социального развития: и то и другое выступает как средство социальной и политической самоорганизации – при способности к высокой самооборачиваемости.
Развивая это положение, можно сказать, что прогноз носит характер своего рода инерционного сценария, утопия предлагает описание целей, в направлении которых можно направить развитие событий, рисует картину реализации базовых политических идеалов, зарождающихся в обществе.
Одновременно нужно иметь в виду, что, когда речь идет о будущем, тем более достаточно отдаленном, вполне рационально-измеряемыми, точными методами исследовать его вряд ли возможно. При размышлении о будущем, тем более отдаленном, мы неизбежно покидаем вполне твердую почву строго доказуемых выводов и вынуждены иметь дело как с гипотезами высокой степени вариативности, так и с интуитивными построениями и описанным Ортегой-и-Гассетом метафорическим научным инструментарием.
И значимую роль в этом процессе, как доказывает в своем диссертационном исследовании Т.В. Тимошенко, играет научная фантастика, как раз и породившая и футурологию, и прогностику [Тимошенко 2003: 114], ключевой функцией которой, как доказывается в исследовании Е.В. Цветкова, как раз «является функция научного предвидения» [Цветков 2009: 10, 134], которая представляет собой и одну из форм превращения политической мысли в политическую науку, и одну из форм политического знания.
Действительно, названный проблемно-целевой подход аналогичен аналитическому методу философской фантастики, авторы которой выявляют существующие тенденции, а затем проецируют их в отдаленную от современности реальность, доводя до максимума последствия современных проблем.
С другой стороны, научная фантастика, моделируя картины будущего на основании принципа непротиворечивости по отношению к данным существующей науки, в значительной степени может быть соотнесена с принятым в политическом прогнозировании методом сценариев. Посвятивший этой проблеме свое первое диссертационное исследование А.С. Ахременко определяет его как в основе своей гипотетическое пошаговое описание последовательности событий и этапов трансформации объекта прогнозирования [Ахременко 1999: 13].
И научная фантастика, и метод сценариев строят свои прогнозы на основании имеющихся научных данных и изначально не выходят за рамки научно допустимого. Однако они во многом идут от разных начальных точек: метод сценариев в первую очередь описывает не противоречащее научным данным развитие имею- щейся ситуации, научная фантастика делится, среди прочего, на два направления. Первое идет тем же путем, лишь художественно иллюстрируя сценарии развития имеющейся в наличии ситуации. Социальная научная фантастика рисует картины будущего состояния общества, исходя в первую очередь из приоритетно предпочитаемого (желаемого или не желаемого), но также не входящего в противоречие с научно допустимым. То есть, в первом случае мы имеем дело с описанием наиболее вероятных (обычно – пессимистического, оптимистического и реалистического) вариантов развития, во втором – с описанием того, что мы хотим получить в будущем или чего мы в нем опасаемся.
Возникнув в определенных условиях как моделирование альтернативы существующему миру и став началом социального конструирования, утопия стала оформленным началом такого явления политической мысли, как осмысление будущего. Сегодня мы можем говорить о нескольких формах этого осмысления, возникших в ходе развития политической мысли. К ним относятся, как минимум, утопия, антиутопия, футурология и прогнозирование. Нетрудно заметить, что две первые из них тяготеют скорее к формам художественно-политического моделирования, две вторые представляют попытку рационального исследования. В известном плане это близко, хотя не тождественно определенному противопоставлению «размышлений о будущем» и «исследований будущего», о котором писал И.С. Бестужев-Лада [Бестужев-Лада 2000: 10].
Говоря о различении первых двух образно-художественных форм, можно заметить, что их различение в общем отражало характер таких парных эстетических категорий, как «прекрасное» и «безобразное». Утопия рисует мир, где идея воплощена в действительность, вступила с ней в непосредственное единство, т.е. мир реализованного идеала, в т.ч. и базового политического идеала. Антиутопия рисует мир, противоречащий идеалу, являющийся его уничтожением.
В обоих случаях на первом плане находится не будущее и даже не размышление о будущем, а моделирование «иного», моделирование альтернативы настоящему. Другое дело, что, если создать образ альтернативного мира можно в настоящем, то реализация его в любом случае требует времени, т.е. может произойти лишь в будущем. Таким образом, сама утопия является началом будущего.
Футурология, напротив, начинается с «размышлений о будущем» и в своем развитии становится как осмыслением, так и его исследованием и прогнозированием.
То есть, утопия идет от образа альтернативного мира к созданию будущего. Футурология – от размышления о будущем к созданию его нового образа. В этом отношении прогнозирование, рассматривая возможные варианты развития сегодняшнего состояния, по сути скорее рассматривает сегодняшнее состояние мира как продолжающееся в будущем с теми или иными более или менее значимыми изменениями, но в принципе не обращается к теме реализации альтернативы.
В этом отношении научная фантастика выступает своего рода соединением различных форм осмысления будущего. Фантастика «ближнего прицела» повторяет подход прогнозирования – описывает вытекающие из возможностей сегодняшнего дня научно-технические открытия и их влияние на общество, в основном остающееся сегодняшним. Социальная научная фантастика, подобно утопии, включает в себя описание параметров мира, где утвержден базовый политический идеал, но рисует картину мира, основанного на представлениях современной науки (как точной и естественной, так и общественной) и не противоречащего им, т.е. выступает своеобразной формой политической мысли, соединяющей альтернативно-желаемое с научно обоснованным и гипотетически возможным.
В этом отношении можно говорить, что возникновение и развитие социальной научной фантастики означало в известном отношении «конец утопии», имея в виду понимание ее как несбыточного. В данном случае мы имеем дело как раз с тем аспектом, о котором Г. Маркузе писал в одноименной работе [Маркузе 2004]: «Когда проект социальных изменений противоречит действительным законам природы, только такой проект является утопическим в строгом смысле слова», – имея в виду, что все, что не противоречит законам природы, возможно для осуществления.
Научная фантастика, соединяя образы желаемой альтернативы с данными науки, заканчивала традицию утопии-несбыточности, но продолжала ее традицию как динамичной формы конструирования мира и его самоорганизации.
Делая предметом своей рефлексии вопросы политического и социального устройства, возможности реализации базовых политических идеалов, она в той или иной степени охватывает проблематику политической философии и приобретает присущие последней черты своего рода «политической философии будущего».
Данный термин предлагается в том значении, что если сама по себе политическая философия, как пишет М.М. Федорова, «есть поиск ответов на вопросы, связанные с основами человеческого общежития и институтами, созданными в рамках этого общежития», включая ответы на вопросы, «какое политическое устройство является наилучшим и справедливым, и можно ли вообще построить идеальное общество и идеальное государство» [Федорова 2001: 7]. В сугубо же академическом формате принято считать, что философия политики рефлексирует всеобщие основания и тенденции эволюции политического бытия, политического познания, политических ценностей, политического действия, осуществляет концептуальные анализ и осмысление природы власти, государства, суверенитета, базовых политических идеалов. То есть, мы можем сказать, что политическая философия будущего решает эти же задачи при обращении их в будущее, в плоскость стратегического прогнозирования.
На рубеже XX–XXI вв. реальный ход истории во многом опроверг сделанные треть века назад расчеты футурологов и показал, что инерционное развитие в рамках прежних социальных форматов вновь актуализирует тему политикофилософской рефлексии проблем будущего. Актуализируется и вопрос не только о том, насколько можно решать проблемы цивилизации в рамках прежних приоритетов, но о том, какие черты можно считать приоритетными и необходимыми для цивилизации будущего. Среди работ, предпринимающих попытку такого ответа сегодня, можно назвать «Идеологию партии будущего» А.А. Зиновьева, «О необходимых чертах цивилизации будущего» Н.Н. Моисеева, «Глобальное политическое прогнозирование» А.С. Панарина [Зиновьев 2003; Моисеев 1997; Панарин 2002].
В известной степени в противоположность этому сугубо футурологическая традиция исследования будущего в своих способах достаточно давно свелась к выявлению назревающих проблем (поисковое, или эксплораторное прогнозирование) и возможных путей их решения (нормативное прогнозирование) [Кузин 2000: 5-6].
Список литературы Футурология и философская фантастика как формы исследования будущего общества и его политического мира
- Ахременко А.С. 1999. Сценарный метод прогнозирования политических процессов: дис.... к.полит.н.: 23.00.02. М. 153 с
- Бестужев-Лада И.В. Что мы знаем о XXI веке? И каким образом? -Впереди -XXI век: антология современной классической прогностики. М.: Academia. 2000
- Зиновьев А.А. 2003. Идеология партии будущего. М.: Алгоритм. 240 с
- Кузин В.В. Футурология: триумф и трагедия. -Впереди -XXI век: антология современной классической прогностики. М.: Academia. 2000
- Маркузе Г. 2004. Конец утопии. -Логос. № 6(45). С. 18-23
- Моисеев Н.Н. 1997. О необходимых чертах цивилизации будущего. -Наука и жизнь. № 12
- Панарин А.С. 2002. Глобальное политическое прогнозирование. М.: Алгоритм. 352 с
- Тимошенко Т.В. 2003. Научная фантастика как социокультурный феномен: дис.... к. ф.н.: 09.00.13. Ростов-н/Д. 142 с
- Федорова М.Н. 2001. Классическая политическая философия. М.: Весь Мир. 224 с
- Цветков Е.В. Научная фантастика как способ конструирования социальной реальности: социально-философские аспекты: дис.... к.филос.н.: 09.00.11. Архангельск: Изд-во Поморского государственного университета им. М.В. Ломоносова. 2009. 203 с