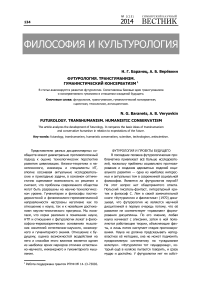Футурология. Трансгуманизм. Гуманистическим консерватизм
Автор: Баранец Наталья Григорьевна, Вервкин Андрей Борисович
Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu
Рубрика: Философия и культурология
Статья в выпуске: 1 (15), 2014 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется развитие футурологии. Сопоставлены базовые идеи трансгуманизма и консервативного гуманизма в отношении ожиданий будущего.
Футурология, трансгуманизм, гуманистический консерватизм, сциентизм, технологизм, антисциентизм
Короткий адрес: https://sciup.org/14113872
IDR: 14113872
Текст научной статьи Футурология. Трансгуманизм. Гуманистическим консерватизм
Представители разных дисциплинарных сообществ имеют диаметрально противоположный подход к оценке технологических перспектив развития цивилизации. Физики-теоретики и нанотехнологи, инженеры и специалисты ИТ, вполне осознавая актуальные исследовательские и прикладные задачи, в основном оптимистично оценивают возможность их решения и считают, что проблемы современного общества могут быть разрешены на научно-технологическом уровне. Гуманитарии и философы постмодернистской и феноменолого-герменевтической направленности настроены негативно как по отношению к науке, так и к новейшим достижениям научно-технического прогресса. Мы полагаем, что корни различия в понимании науки, НТП и отношения к футурологии лежат в философско-мировоззренческих основаниях мышления носителей естественно-научного, инженерного и гуманитарного знания. Отношение к будущему, оценка возможностей воздействия на него и способов этого влияния является одним из наиболее ярких маркеров отличия естественно-научного, инженерного и гуманитарного мышления.
ФУТУРОЛОГИЯ И ПРОЕКТЫ БУДУЩЕГО
В последние полвека футурологическая проблематика привлекает всё больше исследователей, поскольку проблемы социального прогнозирования и создания адекватных моделей социального развития — одна из наиболее интересных и актуальных тем в современной социальной философии. Является ли футурология наукой? На этот вопрос нет общепринятого ответа. Польский писатель-фантаст, литературный критик и философ С. Лем в своей замечательной книге «Футурология и фантастика» (1970) доказывал, что футурология не является научной дисциплиной в первую очередь потому, что её развитие не соответствует «правилам» формирования дисциплины. По его мнению, любая наука начинает с описания, затем в ней появляются работающие теории, объясняющие факты, и лишь потом наступает стадия прогнозирования. Наука не должна предсказывать неподвластное её методике, она не может подменять предикативную систематику на «угадывание вслепую». «Футурология тот «вундеркинд», который ещё в коляске пытается говорить, и сразу мудро и достойно. У футурологии нет ни собст- венных парадигм, ни теории, однако она пытается предугадать будущее, и предсказание будущего её единственное занятие!» [1, с. 170—171]. Лем осуждает футурологические публикации за эклектичность и популизм, за постоянное преумножение социальных и научно-технических пророчеств. К тому же футурологи склонны заканчивать свои прогнозы утверждением, что «всё может быть совершенно иначе». Но процесс настоящего научного познания предполагает, что наступление конкретной ситуации не является неожиданностью, даже если она не прогнозировалась (так, падение метеорита нельзя предвидеть при отсутствии постоянной службы слежения за небом, но падение метеорита не является неожиданным для учёных, так как является результатом достаточно хорошо изученного явления). Поэтому Лем решительно отказывает футурологии в праве называться научной дисциплиной.
Однако энтузиазм некоторых футурологов трансгуманистического направления столь велик, что они, игнорируя несоответствия футурологии существующему эпистемологическому стандарту, объявляют её полноценной наукой. Например, А. В. Турчин и М. А. Батин, перечисляя специфические особенности футурологии, определяемой ими как «наука о путях развития цивилизации», и предвосхищая возможную критику, невольно ослабляют дисциплинарный статус футурологии, которая, по их мнению, «не является нейтральной наукой. Представления о будущем влияют на будущее… Футурология — молодая наука, точные количественные методы играют пока в ней не очень большую роль и эффективны только на близких горизонтах прогноза. Для более точного соответствия прогнозам не только футурология, но и сама цивилизация должна измениться, сделав своё будущее управляемым» [2, с. 10—11].
В современной социальной философии утвердилось промежуточное суждение, что научная футурология входит в комплекс разнородных подходов, направленных на формирование образов будущего человечества. Научная футурология состоит из методов и методик, направленных на построение научного прогноза, а также теоретических и прикладных знаний, отражающих существенные черты возможного будущего человечества. Теоретическое направление научной футурологии занимается методологией прогнозирования, а прикладное направление призвано решать конкретные задачи экономического, социального и политического прогнозирования.
В футурологии выделяют три основных раздела [3, с. 14]: 1) прогнозирование (forecasting) — специальное научное исследование конкретных перспектив развития какого-либо явления; 2) форсайт (foresight) — систематический, согласованный между заказчиком прогноза и экспертами процесс построения единого видения будущего, нацеленный на повышение качества принимаемых в настоящий момент решений; 3) исследования будущего (futures studies) — междисциплинарное направление современной науки, включающее в себя глобалистику и аль-тернативистику.
По уровню и направленности концептуализирования, по степени развитости методологии футурологических исследований можно выделить три основных периода в развитии футурологии.
Первый период — «утопий и пророчеств» (с древнейших времен до XVIII века) — это время формирования представлений о будущем в художественной литературе, религии и философии. Религиозное пророчество есть определенное предвидение и предсказание будущих совершенно случайных событий, которые ни сами по себе, ни в своих сокровенных причинах не могли быть предусмотрены из настоящего и с несомненной достоверностью предсказаны никаким ограниченным существом, а только по откровению всеведущего Существа могли быть сообщены кому-либо из людей. Большинство религиозных пророчеств носили негативноустрашающий характер, предрекали бедствия и гибель человечества в наказание за греховность. Самые знаменитые христианские пророчества — это Книга Даниила и Апокалипсис Иоанна Богослова.
Наряду с пророчествами религиозными с началом книгопечатания в Европе распространились светские предсказания, предзнаменования, продигии. Популярным образцом их являются Центурии Нострадамуса.
Проекты возможно лучшего способа устройства общества были особенно многочисленны в эпоху Возрождения и были построены по образцу платоновского «Государства». В качестве общественного идеала Т. Мор в «Утопии», Т. Кампанелла в «Городе Солнца» и Д. Гаррингтон в «Океании» описывали общество с коммунистическими чертами. Ф. Бекон в «Новой Атлантиде» в качестве силы, управляющей обществом, достигшим контроля Природы, определил науку и учёных (мудрецов из дома Соломона).
Второй период — «выработки методологии прогнозирования и моделирования будущего»
(с начала XIX до середины XX века) — время применения в прогнозе будущего философской и общенаучной методологии, этап политического и социального прогнозирования, а также создание концепций постиндустриального общества, «общества мечты».
В 1798 году Т. Мальтус опубликовал книгу «Опыт о законе народонаселения, влияющем на будущее совершенствование общества…», где вычислил, что при достаточности ресурсов население удваивается каждые 25 лет. Он также полагал, что прирост ресурсов носит линейный характер, в результате чего человеческая популяция вскоре исчерпывает доступные средства для существования и включает сдерживающие регуляторы роста в виде голода, эпидемий и войн.
Захватывающую модель коммунистического общества создал К. Маркс. Его представление о будущем содержит как элементы утопии, так и проекты пути, связывающего будущую утопию с настоящим. Маршрут Маркса состоит из определенных этапов: организация пролетариата — революция — социализм. Маркс рассматривал технологии, названные им «производительными силами», как главную движущую силу прогресса. На каждом этапе именно технологии определяют формы собственности, и как следствие — отношения между классами. Маркс также предсказал неизбежность циклических кризисов при капитализме по причине перепроизводства и закона убывающей отдачи от вложений.
В конце XIX века, благодаря творчеству писателей-фантастов Герберта Уэллса и Жюля Верна, научное предвидение будущего получило мощный импульс к своему развитию. Ж. Верн в своих романах предсказал научные открытия и изобретения в самых разных областях, в том числе акваланги, телевидение и космические полеты. В 1901 году Г. Уэллс написал книгу «Предвидения: о воздействии прогресса механики и науки на человеческую жизнь и мысль», в ней предсказаны развитие пригородных поселений, военное поражение Германии, рост сексуальной свободы и создание Евросоюза. Он предполагал, что первый самолет сможет взлететь только в 2050 году, и, в отличие от Ж. Верна, скептически относился к подводным кораблям.
С 20-х годов ХХ века описания будущего широко варьировались от технологически и социально оптимистических до крайне негативных версий. Примерами последних являются «Закат Европы» Освальда Шпенглера и «1984» Джорджа Оруэлла. Русские учёные-космисты развивали позитивную версию будущего. К. Э. Циолковский высказал идею поэтапной духовной и те- лесной эволюции человека, которая вначале приведёт к появлению совершенного общественного устройства, в котором будет осуществлён технологический переход к «лучистому человечеству». На этом пути человек, существенно увеличивший свою продолжительность жизни, сможет заселить космическое пространство, для чего ему понадобятся ракеты, орбитальные станции, космические лифты.
Третий период — «научной футурологии» — начался в 1950-е годы, вскоре после изобретения эмигрировавшим в США из Германии социологом О. К. Флехтхеймом термина «футурология». На новом этапе началось создание и применение научных методов прогнозирования и предвидения (форсайта) будущего и целенаправленное развитие научной фантастики. Нарастание темпов социальных изменений, научно-технический прогресс и глобальное противостояние после Второй Мировой войны привели к созданию специальных исследовательских центров прогнозирования политических конфликтов и изучения перспектив развития военных технологий. В 1960-е годы возникают научные институты, занимающиеся прогнозированием. Так, в 1965 году в США была создана Футурологическая комиссия для изучения будущего США и всего мира. В 1968 году итальянский экономист и промышленник Аурелио Печчеи организовал международный Римский клуб для изучения «затруднений человечества», связанных с физической ограниченностью ресурсов Земли и бурным ростом производства. В 1984 году в Санта-Фе (США) был создан Институт сложности под руководством Нобелевского лауреата по физике Мюррея Гелл-Манна. Институт занимается различными социальными задачами — от прогнозирования бедствий и компьютерной имитации экономических процессов до разработки сценариев дестабилизации политических режимов (управляемого хаоса) и искусственной жизни.
В 1950—60-е годы появляются признанные эксперты прогнозирования будущего. Ими стали экономист, социолог и футуролог Б. де Жуве-нель, автор технологического прогнозирования Г. Кан, разработчики метода экспертных оценок «Делфи» О. Хелмер, Т. Гордон и Н. Далки. Значительный вклад в формирование научной футурологии внесли отечественные учёные — создатель проблемно-целевого подхода В. А. Базаров-Руднев, разработчик концепции длинных волн конъюнктуры Н. Д. Кондратьев.
При осуществлении и проверке более эффективными оказались среднесрочные прогнозы темпов технико-технологического развития, в то время как социальные прогнозы обычно оказывались нерезультативными. Социальное прогнозирование требует учёта природно-экологических, демографических, технологических, экономических, геополитических и социокультурных факторов. Все они тесно взаимодействуют между собой, определяя динамику социально-экономических и технологических систем на различных уровнях: от регионального и локального до национального и глобального. В футурологии сегодня используются методы экстраполяции, аналогии, экспертной оценки, моделирования возможных сценариев.
Эксперты в областях робототехники, медицины и физики предсказывают в ближайшей четверти века революционные технологические изменения. Известный учёный и футуролог Митио Каку, суммируя высказанные специалистами тенденции, предрекает в ближайшие тридцать лет следующие достижения: компьютерную революцию — переход к квантовым компьютерам; информационный взрыв; существенное продление жизни за счёт новых методов лечения; роботизацию производственно-бытовой среды и киборгизацию самого человека. Развитие «ней-росиликоновых» интерфейсов открывает реальную перспективу совершенствования человеческого тела — уже существует протез рук, управляемый мысленными приказами, созданы прототипы искусственного глаза, а с 2006 года разрешено к применению искусственное сердце. Прогресс когнитивной науки даёт надежду на выявление и понимание процессов в мозге человека и реализацию этих сведений при создании систем искусственного интеллекта [4]. Билл Гейтс прогнозирует создание через 10 лет компьютера, подключаемого к мозгу, что расширит возможности не только инвалидов, но и обычных людей, решившихся на такой апгрейд.
Подобного рода предсказания, всё шире распространяемые и обсуждаемые, стимулируют как положительные, так и негативные ожидания в общественном сознании. Рефлексия учёных, инженеров и философов приобретает разную направленность и порождает конфликт между разными дисциплинарными сообществами.
СЦИЕНТИЗМ И ПРОБЛЕМЫ ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ УЧЁНЫХ
Существует внутренняя, собственная идеология научного сообщества, имеющего определённые задачи, цели и систему ценностей, ради которых оно борется за общественные ресурсы. Идеология научного сообщества позволяет учё- ным консолидированно выступать и отстаивать свои интересы, утверждать о полезности своей деятельности в среде распространяющегося влияния ненаучных видов знания. В концентрированном виде она представлена сциентизмом.
Сциентизм лишь научное знание находит истинным, а ценности научного сообщества признаёт необходимыми регулятивами человеческой деятельности. При этом наука отождествляется исключительно с естествознанием и техникой, социальные и гуманитарные науки познавательного значения не имеют. Жесткий сциентизм считает науку единственной полезной формой познавательной и культурно-духовной деятельности и стремится «онаучить» все общество. Под влиянием критики и переосмысления взаимоотношений науки с другими видами знания появилась более сдержанная позиция.
Мягкий сциентизм признаёт науку главным средством совершенствования человеческой цивилизации. Достижения науки обеспечивают производственное развитие общества и являются косвенным фактором нравственной эволюции. Наука расширяет представления о мире и способствует преодолению заблуждений, порождающих нерациональные реакции, агрессию между людьми и хищническое отношение к природе. Главным стимулом развития науки должен быть познавательный интерес, способствующий саморегуляции научного сообщества, но и всё общество через социальный заказ должно корректировать развитие науки, налагая определённые этические ограничения. Такая позиция близка большинству естествоиспытателей.
Инженерное сообщество имеет свою идеологию — технологизм. Основанием для него явилось формирование во второй половине XIX века сферы массового потребления. Согласно этим представлениям, удовлетворение всех потребностей человека и решение любых проблем осуществляется техническим, индустриальным способом. Английский футуролог Д. Гейбор выразил закон технической цивилизации: «Что может быть сделано, обязательно будет сделано, причём вред, порождаемый техникой, может быть компенсирован опять же техникой» [5, с. 98]. Технологизм описывает все основные сферы человеческой деятельности через призму технико-технологической полезности. Наука определяется как производительная сила, подчиняющая природу. Инженерное проектирование обеспечивает технологическое развитие общества. Сфера образования готовит специалистов производственных процессов, совершенствую- щих технику и технические системы. Власть нужна для поддержания технического развития и со второй половины ХХ века заинтересована в НТП, в котором видит инструмент стимулирования экономического развития и своего усиления.
Антисциентизм критикует науку и технику за необеспечение социального прогресса и за их враждебность подлинной сущности человека. Абсолютизируя негативные последствия НТР, антисциентисты отвергают значимость научного познания. Такие настроения стали возникать в эпоху Просвещения, сопровождая подъём естествознания и техники. Но до середины ХХ века это были лишь высказывания отдельных философов, и только в 1960-е годы в Европе и в США оформилось контрнаучное движение. Критика науки нашла сторонников среди учёных, осуждавших её смысл и ценности, выступавших за реформу науки и перестройку её организации.
Американский социолог Э. Шиллс отмечал кризис отношений науки и общества, но отрицал внутренний кризис самой науки. Он полагал, что существующая критика науки не представляет опасности для научного прогресса. Американский философ С. Тулмин доказывал, что контрнаучное движение отражает вполне законную и обоснованную тенденцию. Физик А. М. Вайнберг разделил критиков науки на четыре группы: разоблачителей, осуждающих современные формы институциализации науки и её связь с «истэблишментом»; вдумчивых законодателей и администраторов, критикующих естественников за отсутствие у них ответственности, политических взглядов и интересов; технологических критиков, порицающих науку за отрицательные последствия её применений; нигилистов и аболиционистов, усматривающих в научно-техническом прогрессе угрозу существованию человечества [6].
Критиками науки были англо-американские и французские философы, но не естествоиспытатели. Они полагали, что сама критика, в том числе и проводимая ими, уже свидетельствует о кризисе науки. Английский философ науки Д. Равец считал, что «идеологический кризис в науке» связан с её экспансией в иные области деятельности и с губительными изменениями в организации «большой науки». Немецко-американский философ франкфуртской школы Г. Маркузе представлял науку компонентом идеологии власти, а научное знание — дискурсом утверждения одномерного мышления. Американский философ науки П. Фейерабенд заявлял, что наука в демократической культуре не может притязать на преимущество перед иными фор- мами знания. Господство науки представляет собой угрозу демократии, поэтому следует уравнять науку в правах с мифом, религией и идеологией. Американский социолог и футуролог Э. Тоффлер высказал идею ограничения роста технологий и гуманизации науки. Итальянский философ Э. Агацци заявлял об идеологической слабости технологизма, не способного выбирать цели, что становится фундаментальной проблемой человеческого существования.
На рассуждения о вреде науки и техники, не удовлетворяющих потребности человека, естественники в большинстве своём реагируют скептически. Они справедливо полагают, что последовательная позиция антисциентиста и антитехнологиста предполагает его отказ от всех достижений современной цивилизации, полученных благодаря науке. А до этого критики науки не доходят, распространяя свои идеи через Интернет и пользуясь в своём быту техническими продуктами современной науки.
ТРАНСГУМАНИЗМ И ГУМАНИСТИЧЕСКИЙ КОНСЕРВАТИЗМ КАК РЕАКЦИИ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
Выражением оптимистических ожиданий дальнейшего развития техники и продолжением ценностных установок сциентизма и техноло-гизма стало трансгуманистическое движение. Оно сформировалось в 1980-е годы. Основоположники трансгуманизма — Марвин Миски, Ганс Моравек, Реймонд Курцвейл, Ник Бостром, Девид Пирс, Ферейдун М. Эсфендиари, Роберт Эттингер, Макс Мур. Понятие «трансгуманизм» в 1957 году ввёл Джулиан Хаксли в книге «Новые бутылки для нового вина». Оно обозначает веру в способность человеческого вида к планомерному коллективному преодолению собственных биологических границ. В начале XXI века в России возникло трансгуманистическое движение. Члены его Координационного совета — Д. А. Медведев и В. В. Удалова.
Трансгуманизм стремится к изменению человеческой природы через улучшение физических и когнитивных человеческих способностей и к достижению бессмертия. Трансгуманисты декларируют необходимость концентрации усилий науки в области нанотехнологий, биотехнологий, информационных технологий и когнитивной науки. Сейчас наиболее развиты информационно-коммуникационные технологии, и они станут средством для развития других. Биотехнологии дают инструментарий и концептуальную основу для нанотехнологий и когнитивной науки. Ожидается, что развитие нанотехнологий приведёт к развитию новых отраслей — наномедицины и нанобиологии — технологий, позволяющих управлять биологическими процессами на молекулярном уровне. Информационные технологии уже сейчас используются для изучения мозга и моделирования биологических систем.
Трансгуманисты регулярно проводят конгрессы и финансируются меценатами, помогающими созданию искусственных органов и произвольному продлению жизни и сознания. Бизнесмен-трансгуманист Д. И. Ицков создал общественное движение «Россия 2045» и основал корпорацию «Бессмертие». Он уверен, что уже через 10 лет искусственные копии человека (аватары), управляемые мыслью с помощью нейроинтерфейсов, станут массовым продуктом вроде автомобиля. Для продвижения своего проекта на мировом уровне в апреле 2012 года Ицков организовал конгресс Global Future 2045.
Трансгуманисты мечтают о широкой популярности их идей, которые объединят всех здравомыслящих людей. Такой союз может возникнуть из стремления к самоулучшению, из желания облагородить будущее человечества и уменьшить катастрофические риски. Трансгуманисты желают направить общество по определенному ими пути. Стремясь заручиться поддержкой политической и экономической элиты общества, они создают механизм управления трансформацией общества в желаемом направлении.
Альтернативное движение консервативных гуманистов критикует достижения НТП, предостерегает от потери человеком его сущности и телесной идентичности. Оно не имеет ярко выраженной группы энтузиастов и не солидарно, будучи широко распространенным в среде гуманитарной, антисциентистски настроенной интеллигенции. Заметным представителем этого направления является философ В. А. Кутырёв, автор декларации против трансгуманизма и техницизма «Философия трансгуманизма» (Нижний Новгород, 2010). Он утверждает, что трансгуманизм — это антропогуманофагия, прямой вызов идентичности человека. По мнению Кутырёва, для человечества наступает драматическая ситуация, когда миллиарды людей воображают себя венцом природы, надеясь на продолжение своего существования в обозримом будущем, но прогресс техники привёл к ограничению их бытия. Традиционный человек и гуманизм как идеология его самоценности стали тормозом ускоряющегося технического прогресса. Кутырёв отвергает выгоды от роботизации, информаци- онной революции и внедрения биотехнологий. Его пугает перспектива технологической эволюции человека, её последствием он видит появление неведомого «Иного», с угрозой чего надо бороться. «Чтобы отбить концептуальную атаку идеологов смерти человека путем его технического перерождения или хотя бы не допустить её универсализации, надо исходить из признания положения, что идеи информационной и биотрансгуманистической де(ре)-конструкции человека — это его теоретический геноцид, форма самоубийства. Гуманизм или трансгуманизм, антропология или гуманология, онтология или грамматология, бытие или ничто — выбирать надо что-то одно» [7, с. 80—81]. Он предлагает отказаться от мировоззрения универсального эволюционизма и прогрессизма. Куты-рёв придерживается идеи того, что целью человеческой деятельности должно быть бытие, а не становление (линия Парменида, а не Гераклита), а культурную жизнь должен определять девиз Н. Кузанского «Человек не хочет быть ничем иным, кроме человека». Смысл жизни надо видеть не в перерождении в иное, а в «совершеннейших экземплярах», как говорил Ф. Ницше. Этическим идеалом Кутырёв избирает бого-человечество, отказываясь от прометеизма и претензий на человекобожие. В связи с этим главное назначение философии — поддержание «традиции воссоздания человека». Консервативные гуманисты выступают, как они полагают, за сохранение жизни на Земле и идентичности человека.
Но тогда появляется проблема, осознанная ещё в конце 1960-х годов. Академик Н. Н. Моисеев по просьбе отечественного биолога Н. В. Тимофеева-Ресовского рассчитал максимальное количество людей на Земле, чтобы при современных потребностях и технологиях вписаться в естественные циклы биосферы. С учётом неизбежных неопределённостей число это оказалось пугающе малым — от 200 до 800 миллионов человек. В 1970-е годы Моисеев с группой коллег в Вычислительном центре Академии наук СССР начал с помощью компьютерного моделирования изучать биосферу Земли и возможные изменения её характеристик вследствие деятельности человека. Моисеев высказал идею «коэволюции» — такого поведения человека, которое приводит к развитию биосферы, т. е. усложнению системы за счёт роста числа её элементов, развития связей и разнообразия форм существования живого вещества. Он писал: «Я думаю, что ясное сознание неизбежности эволюционных перемен нас неотвратимо приве- дёт к переориентации направлений научного поиска и к изменению существующих в нем приоритетов: развитие науки, техники, ориентированное на прибыль, на войну, на уничтожение, что в общем одно и то же, должно быть заменено на поиски условий, обеспечивающих сохранение на Земле рода человеческого, на создание и обеспечение нового гомеостаза» [8, с. 110].
Это самая важная задача, стоящая перед человечеством в его стремлении выжить. Что позволит выжить на Земле девяти миллиардам человек, кроме использования достижений науки и новых технологий? А иначе какими средствами можно снизить численность населения, и сохранят ли оставшиеся счастливцы при этом свою духовную идентичность? Является ли отказ от эволюционизма как принципа жизни, на основании которого происходит развитие Вселенной и всего живого, действительно правильным выбором для человеческой цивилизации, как предполагают консервативные гуманисты?
Возможно, если успехи науки приведут к реальному продлению жизни человека и изменению его антропологических характеристик, то трансгуманизм станет новой массовой идеологией. Пока этого не произошло, сциентизм будет выражать интересы научного сообщества, технологизм — инженерного сообщества, а на долю гуманитариев останется критика того и другого. В основе такой критики лежат не только опасения из-за возникших глобальных угроз, спровоцированных внедрением научных открытий и новых технологий, но и различие в ориен- тирующих идеалах деятельности этих сообществ. Суммируя рассуждения эпистемологов на тему специфики идеалов деятельности, получаем, что в естественных науках ими являются доказательность, новизна и полезность получаемого знания, в инженерных науках — достижимость, оригинальность и целесообразность, а в гуманитарном знании — гармоничность, своеобразие и актуальность. Именно здесь стоит поискать причины расхождений в футурологических ожиданиях учёных, инженеров и философов.
-
1. Лем С. Фантастика и футурология : в 2 кн. Кн. 1. М. : АСТ : Хранитель, 2008.
-
2. Турчин А. В., Батин М. А. Футурология. М. : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
-
3. Сидоренко О. В. Методологические и мировоззренческие основания современных футурологических исследований : автореф. дис. … канд. филос. наук. Иваново, 2012.
-
4. Медведев Д. А. Конвергенция технологий — новая детерминанта развития общества // Новые технологии и продолжение эволюции человека? Трансгуманистический проект будущего. М. : Изд-во ЛКИ, 2008. С. 46—84.
-
5. Цит. по: Рачков В. П. Техника и её роль в судьбах человечества. Свердловск : Упринформпе-чать, 1991.
-
6. Weinberg A. M. In: Defence of Science. Science. 1970. Vol. 167. № 3915. P. 141—145.
-
7. Кутырёв В. А. Философия трансгуманизма. Н. Новгород : Изд-во ННГУ, 2010.
-
8. Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М. : Изд-во МНЭПУ, 1998.
Список литературы Футурология. Трансгуманизм. Гуманистическим консерватизм
- Лем С Фантастика и футурология: в 2 кн. Кн. 1. М.: АСТ: Хранитель, 2008.
- Турчин А. В., Батин М. А. Футурология. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013.
- Сидоренко О. В. Методологические и мировоззренческие основания современных футурологических исследований: автореф. дис.. канд. филос. наук. Иваново, 2012.
- Медведев Д. А. Конвергенция технологий -новая детерминанта развития общества//Новые технологии и продолжение эволюции человека? Трансгуманистический проект будущего. М.: Изд-во ЛКИ, 2008. С. 46-84.
- Рачков В. П. Техника и её роль в судьбах человечества. Свердловск: Упринформпечать, 1991.
- Weinberg A. M. In: Defence of Science. Science. 1970. Vol. 167. № 3915. P. 141-145.
- Кутырёв В. А. Философия трансгуманизма. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2010.
- Моисеев Н. Н. Судьба цивилизации. Путь разума. М.: Изд-во МНЭПУ, 1998.