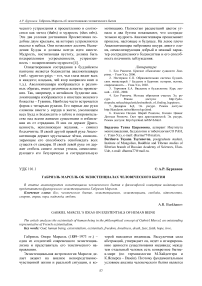Габриэль Марсель об экзистенциалах человеческого бытия
Автор: Бурханов Александр Рафаэлевич
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 14, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируются экзистенциалы человеческого бытия в философской концепции выдающегося представителя французского экзистенциализма Габриэля Марселя.
Бог, человеческое бытие, экзистенциализм, экзистенциалы, свобода, одиночество, смерть, страх, вера, надежда, любовь
Короткий адрес: https://sciup.org/148180808
IDR: 148180808 | УДК: 101.1
Текст научной статьи Габриэль Марсель об экзистенциалах человеческого бытия
Габриэль Оноре Марсель (1889–1973 гг.) – один из создателей современного экзистенциализма и представитель его теистического направления.
Экзистенциальная антропология Марселя делает акцент на анализе непосредственночувственной жизни и реальной ситуации, в ко- торой находятся индивиды. Рассудочная сила абстракций, утверждает он, ведет к игнорированию ценности существования индивида; между тем отдельный человек есть конкретное бытие-в-мире (по терминологии М.Хайдеггера и К.Ясперса – Dasein). Поэтому фундаментальным условием анализа человеческого бытия является нахождение в ситуации: не в той или иной отдельной ситуации, а в ситуации в мире, в целом [1, с. 198–211]. «...Ситуация, – пишет философ, – это… реальность, интересующая субъекта как Dasein, отмечающего при этом свои пределы и свое поле деятельности» [5, с. 181]. Именно в субъективном переживании раскрываются экзи-стенциалы – ключевые индикаторы человеческого бытия.
Экзистенциалы (экзистенциалии) – способы существования человека и выявления сущностных характеристик Я; категории человеческого бытия; ценностные узлы, квинтэссенции смыслов, целей, стремлений людей; мировоззренческие конструкции, которые задают параметры человеческого существования в мире. В западной и отечественной философии выделяют так называемые «отрицательные» – одиночество, смерть, страх – и «положительные» – вера, надежда, любовь – экзистенциалы, а также другие модусы бытия индивидов – самотождествен-ность, самотрансценденция, целостность, открытость, духовность, свобода, ответственность, творческая активность, телесность и т.п. [2, с. 12–20, 366; 10, с. 91–101; 11, с. 93–129].
«Я» – это выражение вторичности тела, в отличие от которого душа есть «чистое бытие», полагает Марсель. Явленный через тело, этот мир выступает для нас как мир онтологический, существующий независимо от нас. Однако телесное чувствование обладает фундаментальной необъективируемостью. Я не могу включить мое внимание иначе, как через мое тело. В акте трансцендирования, противоположном онтологическому существованию, осуществляется соединение человека с иным миром, постигается зависимость души человека от Бога.
Но «Я» – это не просто «мое тело», а сама «моя жизнь», не нечто предметное, объективное, познаваемое, а переживаемое, волевое, говорит французский мыслитель. Истинная свобода заключается в том, чтобы стать самим собой, преодолеть подчинение обстоятельствам, а значит почувствовать в себе Абсолют, вернуться душой к Богу, частицей которого в действительности мы являемся. Следовательно, экзистенция кроется в самой борьбе человека, вскрывающей для него подлинное бытие; и борьба эта нацелена на истоки бытия, понимаемые не как природа, а как свобода [5, с. 192].
Человек есть то, что сам из себя делает. Он – проект самого себя, который существует настолько, насколько себя реально осуществляет, поскольку он изначально свободен. При этом свобода понимается как характеристика кон- кретного мира индивида, как экзистенциал человеческого существования [11, с. 93, 105–114]. Свобода, подчеркивает философ, – не только рациональное осознание эмпирического бытия, но, прежде всего, экзистенциальное ощущение метафизической радости, полноты бытия. Следовательно, отождествлять свободу со свободой выбора – величайшее заблуждение. Марсель не приемлет гиперболизации свободы, которая, по его мнению, приводит к утверждению позиций абсолютной пустоты [4, с. 135–136].
Экзистенция выводится Марселем за пределы сферы объективности, в сферу «подлинного» бытия. Бытие в контексте его философствования – это некая укорененность экзистенции, гарантия ее вневременного характера [5, с. 177]. Это также некая идеальная сфера интерсубъективности, принадлежность и открытость другому, диалог «Я» и «Ты».
Печатью подлинного бытия отмечена и встреча – одно из важнейших понятий философско-антропологической концепции Марселя. Всякое схватывание, постижение абсолютного, есть лишь моментальная встреча, в которой Абсолют приоткрывается нам, но затем ускользает. В акте встречи вера (верность), любовь и надежда выходят за свои конечные эмпирические пределы, становясь экзистенциалами человеческого бытия. «В этой перспективе как главенствующая должна рассматриваться идея благодати, – пишет католический мыслитель, – единственно исходя из нее мы можем... подняться до утверждения – не существования, но присутствия Бога....Человеческая свобода во всей своей глубине может быть определена лишь в соотнесении ее с благодатью...» [4, с. 141–142]. Свобода, следовательно, – это, прежде всего, согласие или отказ, который мы можем высказать в отношении к божественной благодати. Все, что выходит за рамки подобного экзистенциального освоения мира человеком, составляет объективацию. При этом трансцендентное не является онтологической реальностью, но остается фоном, на котором ощущается «прилив бытия».
Познать творческую субъективность человека, утверждает Марсель, означает признать его «бытие» как тайну, а не как проблему. «Проблема» – это то, с чем сталкивается познание, то, что преграждает ему путь. Это вопрос, который может быть рассмотрен объективно. Примером является математическая или физическая проблема, где человек полностью абстрагируется от конкретных условий своей жизни. «Тайна», или «таинство», напротив, вовлекает в свое решение бытие вопрошающего; тайна есть то, во что человек вовлечен сам.
Сфера природного и связанная с ней необходимость покорения природы техникой совпадает со сферой проблем, считает философ. Научнотехнический прогресс существует лишь в сфере проблем, всякое же индивидуальное бытие есть символ таинства и выражение трансцендентной тайны. Оно погружено в мир, который превосходит любое понимание. Наука никогда не дает подлинного постижения человека, поскольку рассматривает его не как «Я», не как субъект, а как всего лишь функционирующий объект.
Итак, сам по себе человек есть свобода, а не только природа, делает вывод Марсель, тайна, а не только совокупность проблем. Поэтому личное бытие, Dasein, – всегда тайна. Именно в тайне-таинстве человек соотносится с Богом. Всегда можно логически и психологически свести тайну к проблеме, но это будет порочная процедура. Субъектом научного познания является мышление вообще, сознание как таковое. Но тайна человека может быть постигнута лишь всей полнотой существа, вовлеченного в личную драму, которая является историей его собственной экзистенции. Конкретные подходы к онтологической тайне следует искать не в логическом мышлении, а в выявлении духовных данностей – таких как вера (верность), надежда и любовь – подлинных экзистенциалах бытия людей [3, с. 72–106].
Марсель констатирует сопричастность личности тотальности божественного бытия, данной через озарение. Свойственное таинству «соучастие в бытии» приводит к сверхрациональному единству субъекта и объекта, полностью невыразимому в образах восприятия, понятиях или словах. То, что является для меня истинным, не требует проверки, поскольку это «не-опосредуемое непосредственное».
Человеческое бытие, рассуждает Марсель, немыслимо вне общения с другими людьми, вне коммуникации. Как личность, индивид сущностно открыт другому. «Что-то могущественное и скрытое уверяет меня в том, что если другие не существуют, то и меня также нет, – пишет христианский мыслитель, – что я не могу приписывать себе то существование, которым бы не обладали другие…» [7, с. 34]. Исконно человек живет в соучастии в делах ближних и божественном бытии. Таковое он также воспринимает во внутреннем, покорном бытию благоговении. Причастность к бытию осуществляется в душевном, «сердечном» диалоге друг с другом, указывающем на Бога как абсолютное «Ты».
Бог у Марселя – вовсе не умопостигаемая первопричина всех вещей и не объект рационального познания, Его бытие не доказывается, а просто принимается. Существование Бога следует выводить из существования человека, тайны, которая заложена в его психике. «Призыв или молитва… является единственной живой связью души с Богом…» [4, с. 139]. В рефлексии отношений интерсубъективности «Я» «открываю» для себя Бога как личный трансцендентный Абсолют, и мне становится известно о моей направленности к абсолютному «Ты». Отношение человека к Богу имеет эмоциональный, интимный характер любви, основывается на вере и надежде, на благоговении и преклонении перед Высшим Существом. К Богу ведет не доказательство, а свидетельство, и в природе всякого свидетельства лежит возможность быть подвергнутым сомнению.
Габриэль Марсель болезненно ощущает утрату человеком своего места в мире. Разбитому и расколотому внешнему миру соответствует разбитый и расколотый внутренний мир – неподлинная жизнь страдающих людей. Такая жизнь порождает «отрицательные» состояния человеческого существования: одиночество, смерть, страх, которые в теистическом экзистенциализме ассоциируются со Злом: «По сути дела там, где замешано Зло, Смерть неизменно начинает свою работу. <…> Триумф Зла – Триумф Смерти – Триумф Отчаяния: вот поистине различные формы единственной и устрашающей возможности на горизонте человека…» [9, с. 60, 62]. Смерть как экзистенциал бытия человека всегда конкретна, это смерть-здесь-и-сейчас, опустошающая чью-то жизнь, разрушающаю любовь, грубо прерывающая связь людей. Марсель ощущает трагизм смерти через кончину близких людей, понимая ее как разрушение интерсубъективности.
Страх философ описывает как тоску, тревогу, ужас или отчаяние. Ресурсы, находящиеся в распоряжении отчаяния, к сожалению, являются необозримыми и способны упразднить свободу, закрыть для нас те пути надежды, которыми прорываются к нам воскрешающие нас вспышки Божественного Света. И здесь одиночеству и страху противостоит интерсубъективность. «…Если я вступил в битву со Злом, – пишет Марсель, – как с искушением отчаяться в себе или в людях, или в самом Боге, то мне не удастся его одолеть, замыкаясь в себе, ибо самоуду-шение не может быть освобождением» [9, с. 63].
Источник творческой активности человека – в самотрансцендировании, ведущем к Богу, под- черкивает философ. «Подлинный» человек – это личность, устремленная к миру высших ценностей. Нам, брошенным в расколотый и бессмысленный мир, надлежит найти абсолютные ценности, которые существуют в Боге. Эти усилия – личное дело каждого индивида, внутренняя тайна каждого человека, но они касаются интерсубъективных ценностей. Следует пробудить среди людей подспудную силу взаимной связи, единодушие, чей источник – Божественный Свет. Личность ощущает в своей душе «свет как предельное выражение тождества истины и любви» [9, с. 39].
Эта онтологическая вовлеченность индивидов в смирение, послушание и любовь, приобщение к вере, ощущение доверия к Высшему Существу рождает надежду. Ночь «человеческого удела» может, говорит Марсель, если не освещаться, то хотя бы «прокалываться» неким мистическим озарением. Надежда и есть подобное «пронизывание» индивидов Светом Бытия. Ведь надежда – не только протест, продиктованный отчаянием, но и своего рода призыв, крик о помощи, обращенный к Союзнику, который сам есть Любовь. «…Существует любовь без условий, выдвигаемых одним существом другому, – утверждает философ, – дар, который не может быть отнят» [5, с. 108].
Надежда, считает Марсель, основывается на убеждении, что есть в реальности нечто, способное победить несчастье, что существует Абсолютное, Трансцендентное, несущее нам благо и спасение. Истоки «реки надежды» не находятся непосредственно в видимом мире. Нельзя рационально задумать и создать какую-нибудь технику осуществления надежды. Надежда есть порыв, призыв к Высшему Существу, от которого лучится к нам Любовь.
Надежда – это акт веры человеческого существа в возможность Божьей помощи, переживаемый как акт доверия и верности индивида Абсолютному и Совершенному Началу, содержащемуся в его душе: «Вера не есть нечто такое, что имеют… чем обладают... Она есть активное признание некоторого присутствия…» [9, с. 43, 46]. Подлинная вера предполагает Абсолютную Личность, которая творит и взывает к личной ответственности быть верным и не изменять. «Здесь рядом с верой встает любовь. ...Любовь – это условие веры…», – пишет Марсель [6, с. 109]. Именно в любви соединяются вера и надежда.
Метафизическое полагание бессмертия души неотделимо от любви. Любовь – онтологически фундированная сила антисмерти. «Любить че- ловека – значит сказать ему: “Ты не умрешь”» [9, с. 85]. Любовь включает в себя устремление индивида к совершенствованию и выхождению за пределы себя как телесного единства, акт воли к духовному развитию Другого и саморазвитию, преодоление одиночества. «…В любви… стирается граница между понятиями “во мне” и “передо мной”… таинство, подобное таинству души и тела, постигается только через любовь и само определенным образом ее выражает» [3, с. 82]. В любви заключена тайна мироздания, тайна преодоления одиночества и страха смерти, т.е. тайна благодати.
Поэтому надежда – не только мольба человека о благодати, но также само это сверхрациональное состояние благодати, упраздняющее страх, тоску и отчаяние. Марсель подчеркивает активный характер надежды [9, с. 74]. Существуя в неразрывной взаимосвязи с любовью и верой, надежда является мировоззренческой опорой человека, центром духовного освоения индивидом окружающего мира, ориентиром смыслоопределения личности. Трансцендирую-щий характер надежды тесно связан с временным характером человеческой жизни, ее устремленностью в будущее, открытостью к тому, чего актуально еще нет.
Посредством свободного акта душа признает (или не признает) Высшее Начало, творящее ее каждое мгновение и дающее ей бытие, благодаря чему она раскрывается воздействию глубоко внутреннему и одновременно трансцендентному, вне которого она есть лишь ничто. Это демонстрирует сверхрациональную парадоксальность, осуществляющуюся в самом сердце веры [8, с. 279–281]. Таким образом, вера, надежда и любовь укоренены в экзистенциальном опыте, опыте «встречи» человека и бытия и углубленного общения индивидов, ведущего к свободному познанию себя изнутри интерсубъективности.