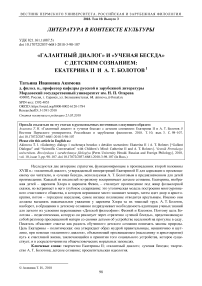"Галантный диалог" и "ученая беседа" с детским сознанием: Екатерина II и А. Т. Болотов
Автор: Акимова Татьяна Ивановна
Журнал: Вестник Пермского университета. Российская и зарубежная филология @vestnik-psu-philology
Рубрика: Литература в контексте культуры
Статья в выпуске: 3 т.10, 2018 года.
Бесплатный доступ
Исследуются две авторские стратегии, функционирующие в произведениях второй половины XVIII в.: «галантный диалог», утверждаемый императрицей Екатериной II для адресации к просвещаемому ею читателю, и «ученая беседа», используемая А. Т. Болотовым в предназначенном для детей произведении. Каждый из писателей по-разному воспринимает детское сознание. Екатерина, изображая детей - царевича Хлора и царевича Февея, - стилизует произведение под жанр фольклорной сказки, но встраивает в него глубокое содержание: это утопическая модель построения многоуровневого счастливого общества, в котором вершинное место занимает монарх, затем идет двор и аристократия, потом - городское население, самое низшее положение отводится крестьянам. Именно они должны вызывать максимальное уважение у царевича Хлора за их тяжелый труд. А. Т. Болотов, наоборот, в обращении к детскому сознанию подразумевает необходимость адаптации ученых знаний для легкого их усвоения персонажами «Детской философии»: Феоной и Клеоном. Поэтому цель Болотова - педагогическая, которую он реализует через стратегию «ученой беседы», представляющую собой разговор просвещенной матери со своими детьми об устройстве вселенной на прогулке в саду. Писатель объясняет счастье как радость обученного детского сознания понимать законы природы. Цель Екатерины - политическая: она утверждает образ мудрой правительницы, ненавязчиво и шутливо, при помощи «галантного диалога», объясняющей просвещаемым (наследнику и аристократии) путь к счастливой жизни, заключающийся в принятии того социального устройства, которое существует, и в сосредоточении на общечеловеческих моральных заповедях.
Творчество екатерины ii, "галантный диалог", "ученая беседа", творчество а. т. болотова, детское сознание, просветительская идеология
Короткий адрес: https://sciup.org/147226926
IDR: 147226926 | УДК: 821.161.1(087.5) | DOI: 10.17072/2037-6681-2018-3-98-107
Текст научной статьи "Галантный диалог" и "ученая беседа" с детским сознанием: Екатерина II и А. Т. Болотов
В 1761 г. в русской литературе появляются переводы двух книг, авторы которых активно использовали диалоговые художественные формы для популяризации научных знаний. Первая книга уже была издана в 1740 г., однако в 1756 г. Синод обратился с просьбой к Елизавете Петровне о запрещении ее в России. Несмотря на это, «Разговоры о множестве миров» Б. Фонтенеля (1688), переведенные А. Кантемиром в 1730 г., но не дошедшие до русского читателя [Радовский 1959] из-за представления «коперни-кианской картины мира» [Клейн 2005: 491], были выпущены значительным по тем временам тиражом.
Вторая книга продолжала традицию воспитательной литературы, заложенную Петром I в «Юности честного зерцала» [Данилевский 1995: 113], и представляла собой разговор «госпожи Благоразумовой двенадцати лет» [Лепренс де Бомон 1800: 2] с девочками пяти, семи, десяти, тринадцати лет и учительницею Добронравовой – это «Детское училище» Жанны-Мари Лепренс де Бомон. В этом произведении разговоры детей сменялись рассказами им учительницей сказки и историй из Библии [там же: 18].
Через год [Привалова 1958: 245] после их появления А. Т. Болотов приступает к написанию «Детской философии, или нравоучительных разговоров между одною госпожою и ее детьми, сочиненным для поспешествования истинной пользе молодых людей», в которой ему «хотелось, чтоб дети посредством чтения находящихся в сем сочинении простых и самых детских разговоров, нечувствительно могли получить о самонужнейших к сведению вещах короткие, но колико можно яснейшие и тихие понятия…» [Болотов 1776: 11].
Судя по названию произведения, цель его заключается в воспитании не столько интеллектуальных, сколько нравственно одаренных детей. При этом Болотов уходил от жанровых возможностей сказок: он создавал произведение не просто для детей, а о детях и о переходе от детского, несмышленого поведения к осмысленным делам и поступкам своих маленьких героев. Не случайно автор заостряет внимание на изменившемся отношении пятнадцатилетней Феоны к сказочному жанру: «Бетида: Что же вы теперь о ваших сказках думаете? - Феона: О сударыня! Пожалуйста, мне об них уже и не упоминайте. Я давно их бросила и стыжусь теперь, что была до них охотница. Много есть вещей и без них, которые нам ведать и на узнание которых время употребить надобно» [Болотов Ч. 2, 1776: 6]. За этим изменившимся отношением ребенка к сказке высвечивается проблематика обращения писателя к определенному типу повествования, скрываю- щемуся за разными диалоговыми формами: «галантным диалогом» и «ученой беседой».
Следует заметить, что обращение к диалоговой форме для популяризации научных идей в области филологии было использовано ранее В. К. Тредиаковским [Разговор 1748], однако его «Разговоры…», безусловно, являющиеся попыткой воспроизведения «чужого сознания» путем представления образа иностранца, пытавшегося понять русский язык, не были рассчитаны на восприятие детским сознанием. Переосмысление в этой области происходит, по-видимому, в русской литературе с «последней трети XVIII века» [Имендёрфер 1998: 51], когда возникают условия, при которых «можно говорить о литературных произведениях (разного качества) с ярко выраженной функцией, т. е. с сознательной установкой на юного читателя» [там же: 51–52].
Появление в русской литературе сочинений с адресацией к детскому сознанию совпадает с распространением сентименталистской эстетики и теории, прежде всего идей руссоизма, в которых «движение к счастью приобретает характер возврата: для человека – к естественному состоянию детства, для человечества – к естественным условиям общежития» [Лотман 2000: 142]. В этой связи тема детства получает двоякое звучание: и как реализация воспитательного потенциала просветительской идеологии, и как развитие естественных желаний человека – ощутить момент счастья в детской поре жизни.
Важная для просветителей концепция счастья (см.: «Сама тема счастья в интерпретации писателей XVIII в. отразила антиномии, существовавшие в мировосприятии людей этой эпохи, прежде всего противоречие между “Природой” и “Добродетелью”» [Кочеткова 2003: 178]), так многогранно литературно обыгрываемая, воплощалась в разных жанровых формах, среди которых, наверное, первое место принадлежало жанру сказки. По свидетельству Л. В. Пумпянского, сказка привлекала чтущий моральные законы петербургский двор, «потому что в центре интереса – правильный частный жизненный путь, добродетель как условие счастья» [Пумпянский 2000: 93]. Именно этот жанр, культивируемый французскими салонами, содержал установку на устную беседу, следовательно, на диалог [Строев 1990: 8]. Если во французской литературе жанр литературной сказки, пройдя сложные перипетии в своем развитии, приобрел характер возврата: появившись на свет из тела рыцарского романа, он в XVIII в. дал жизнь прозе нового типа: жанрам любовного психологического романа и сказочной повести [Строев 1990], ‒ то в русской литературе его путь был иным:
«В середине XVIII века литературная сказка отграничивается от эпической поэмы, в конце XVIII – начале XIX столетия – уже и от романа и повести. Во всяком случае она, как правило, еще слабо соотносится с традицией устной сказки, и ее рецепция как рядовыми читателями, так и профессиональными литераторами осуществляется преимущественно в рамках письменного искусства» [Тиманова 2007: 5]. Здесь не только еще не сложились условия для восприятия детского сознания как «иного», но и сама форма салона как провозвестника диалогового общения наталкивалась на отсутствие в русской культуре традиций организации светского досуга вокруг женщины [Лотман 1985: 229].
Русским писателям необходимо было освоить различные диалоговые формы, уже ставшие в XVIII в. основой для новой французской прозы [Cazanave 2005], таким образом, книги Фонтенеля и Лепренс де Бомон предоставляли авторам искомые образцы.
«Ученая беседа», ведущаяся в «Разговорах о множестве миров», была посвящена раскрытию гелиоцентрической картины мира, однако художественная рамка этого философско-астрономического трактата, представленная в виде «галантного диалога» интеллектуального кавалера с изящной маркизой, позволяла популяризовать сухой научный текст и делать его содержание доступным другому, женскому сознанию: «“Разговоры о множестве миров” Фонтенеля – это произведение, в котором автор, стараясь не ссориться с религией, проводит новые положения в астрономии, доказывая их путем простейших, порой шутливых и остроумных доводов разума, доступных всякому неподготовленному человеку» [Шкляр 1962: 150]. Более того, сугубо научное произведение в галантной оболочке (см.: «Система Коперника в ней была изложена в форме светской беседы с маркизой, интересующейся астрономией. Автор придал науке галантный характер, освободив ее от всего “скучного”» [Блудилина 2003: 25]) получало дополнительные смыслы и функции, одна из которых состояла в распространении нового типа интеллектуального времяпрепровождения, дающего возможность получать удовольствие от беседы в ходе игры не только умом, но и чувствами. Различие между двумя типами общения состояло в способах подачи содержания разговора, зависимых от особенностей восприятия его собеседником: «ученая беседа» предполагала обмен мыслями только в профессиональной среде, тогда как «галантный диалог» заведомо велся с неравными собеседниками при имитации равно свободного общения. Неравенство могло быть различным: гендерным, социальным, интеллектуальным. «Галантный диалог» выполнял функцию сглаживания любого дисбаланса для установления гармоничного сосуществования. Именно поэтому он проявляется в произведениях Екатерины II, которая использует его для гармонизации социальных отношений и установления мифа о «золотом веке» ее правления. В то же время и «ученая беседа» открывала перед сочинителями новые писательские возможности, прежде всего для реализации воспитательных задач.
Интерес Екатерины II к творчеству Фонтенеля предопределялся и тем, что французский писатель в 1725 г. в Парижской Академии наук произнес «Похвальное слово Петру I». Чувствительная к распространению и популяризации положительного имиджа России императрица не могла оставить сей факт без внимания, и в 1771 г. в журнале «Трудолюбивый муравей» появляется перевод этой речи. Более того, «Разговоры о множестве миров» Фонтенеля входили в «Реестр дорожной библиотеки» императрицы [Императрица Екатерина II 1894: 83–84], которую она завещала сыну, невестке и внукам. Очевидно, что произведение Фонтенеля претендовало на роль особо значимой книги для Екатерины II, ориентация на которую определялась идеологическими задачами: ей важно было продемонстрировать просветительский потенциал власти, для реализации чего использовались разные авторские стратегии, поэтому «ученая беседа» и «галантный диалог» разводились ею, воспроизводясь в разных жанрах: «Бабушкиной азбуке» и «Сказке о царевиче Хлоре» (1781).
Если в первом произведении императрица использовала дидактику и учила своих читателей умению задавать правильные вопросы (например: «Вопрос: что есть добрый гражданин? Ответ: добрый гражданин есть тот, который выполняет с точностью все гражданские обязательства; домашние яко сын, яко брат, яко муж, яко отец, яко получающий услуги, или яко отправляющий служение по состоянию, в котором находится, общественные яко в обществе живущий, и дружеские яко друг, и яко добрый сосед» [Екатерина II 2004: 59]), то во втором сочинении она аллегорично изображала мир социальных отношений, понятный воспитывающемуся в стенах дворца ребенку. Вследствие этого в «Бабушкиной азбуке» философия подавалась в виде наглядного примера («Понятно, что нравственные изречения, и притом облеченные в сжатую форму, с одной стороны наименее доступны детскому разумению, с другой – наименее способны возбуждать, привлекать и питать внимание детей» [Лавровский 1910: 97]): афоризма, анекдота или вопросно-ответной формы, а в «Сказке о царевиче Хлоре» светская философия реализовы- валась галантным способом, через подтекст, представленный поучительной аллегорией.
На первый взгляд «галантный диалог», как и «Разговоры о множестве миров», не могли попадать в орбиту внимания А. Т. Болотова, не только не принимающего атеистического мировосприятия, но и отчужденно относящегося к галантной традиции в целом, о чем свидетельствует его высказывание о книге Вольтера «Принцесса Вавилонская»: «По достохвальному своему обыкновению ругаться над всем, что есть хорошее в свете, шпынять наиязвительнейшим образом над всеми истинами откровенного закона и над всем, что в свете за свято почитается. Шпынять над государями, над народами и над всем человеческим родом, низводить оной в равенство и собратство скотов, ополчаться против самого творца и всех известнейших и неоспоримейших исторических истин» [Болотов 1933: 210]. Известно, что в качестве источника его «Детской философии» выступала книга Лепренс де Бомон [Артемьева 2012: 11].
В то же время в «Разговорах о множестве миров» содержался один важный момент, привлекательный как для Екатерины, так и для Болотова: обучение совершалось во время прогулки по парку. Именно этот мотив воплощается в «Детской философии», в которой обучение матерью детей происходит именно в саду: «Г. Ц.: Какая это приятная погода сего дня у нас, любезные дети! Вот смотрите, какой тихий, теплый и благорастворенный воздух! Какая тишина, какое от древ благоухание, как хорошо поют птицы. Пойдемте ж мы, светы, в лиственную беседку, которая на конце этой аллеи стоит, и там отдохнуть сядем, а между тем и говорить начнем. Птички не помешают разговорам нашим» [Болотов Ч. 1, 1776: 15].
В философии XVIII в. прогулка по саду становилась способом инициации формирующегося сознания на более высокую ступень рационального познания. Поэтому образ сада оказывался смысловым стержнем мифологемы золотого века, в которой он символизировал земной рай, трактуемый и как идеальное государство для всех подданных монарха, и как «пространство личного счастья» [Веселова 2010: 402].
Таким образом, поиск счастья становится основным мотивом философии, воссоздаваемой как императрицей Екатериной II, так и дворянином А. Т. Болотовым: «Ода “К человеку, хотящему быти счастливым” кратко излагает болотовскую концепцию счастья, базировавшуюся на философии Зульцера и Х. А. Крузия и изложенную им в трехтомном “Путеводителе к истинному человеческому счастию” (1784). Согласно этой концепции, единственно возможная мера человеческого земного счастья достигается путем выбора наиболее доступных и вместе с тем богоугодных удовольствий, среди которых Болотов выделяет три главных: чтение, созерцание природы и молитва. Таким образом, наслаждение природой – один из важнейших навыков, который необходим человеку, “хотящему быти счастливым”» [Веселова 2014: 33–34], но пути решения этой задачи каждым из писателей выводятся по-своему.
Болотов связывает земное счастье со знаниями о строении Земли и ее сотворении, что сопряжено с понятиями духа и стихий: «Итак, знайте, любезные дети, что Бог Дух, не видим, жив и имеет разум и волю, и помните, что все сие называется и составляет существо Божеское» [Болотов Ч. 1, 1776: 169]; «Бог хотел, чтобы мы его любили, почитали, слушали и во всем ему угождать старались. Одним словом, так жили и то делали, что ему угодно, и за то положил он намерение не только нас ныне счастливыми сделать (выделено нами. – А. Т .), но и после нашей смерти нам гораздо счастливейшую и такую жизнь делать, которая бы никогда конца не имела» [там же: 92].
Как видим, в понятии Болотова о счастье соединяется как религиозное, так и светское представление о духовности, выраженное и божественными (вечными, невидимыми, разумными), и душевными свойствами (нравственное самосознание) человека: «Клеон: Поэтому, сударыня, и душа наша в голове? – Г. Ц.: Надобно думать, мой свет, что в голове, потому что мыслит в нас не тело, а душа» [там же: 218]. Поэтому задача молодого человека состоит в разумном постижении свойств души и ее совершенствовании нравственными поступками. Автор «Детской философии» рисует естественнонаучную картину мира, существование которого объясняется через бытие Бога, в том числе как нравственного идеала, поэтому стремление человека к добродетели объясняется приближением к его источнику и сопряжено с познанием его физических законов: «Г. Ц.: Собственная наука, называемая Физикою, весьма пространна и глубокомысленна, и вы ей порядочным образом обучаемы быть не можете. А я по примеру прежнему буду выбирать из нее одни только нужные вещи или так сказать луч-шенькие цветки, и сказывать вам только то, что к моему намерению надобно. …Все то, что человеку в жизнь свою знать надобно и что может служить к его благополучию, может включать в следующие познания, а именно: во-первых, чтоб знать Бога, во-вторых, знать мир или свет, в-третьих, наконец, чтоб знать человека или самих себя» [там же: 42–43]. Так, вводя образ цветка как символ знания о нравственных законах, Бо- лотов в какой-то мере предвосхищает сказку Екатерины II, в которой образ цветка будет сопряжен с образом Фелицы – счастья.
Екатерина II и в сказке, и в азбуке формирует знание, которое будет называться в XIX в. светской философией и основываться на понимании каждым здравомыслящим человеком своего места в социальной иерархии. В то же время, отрицая мистику и провозглашая себя ученицей Вольтера, императрица в «Сказке о царевиче Хлоре» выстраивает сюжет, подходящий для религиозного сочинения [Ипатова 2009: 166].
Путь, который проходит Хлор, заключается в постижении им социальной вертикали. Об этом свидетельствуют начало путешествия: спуск с горы, на которой живет маленький царевич, и его завершение: поднятие на гору, где растет роза без шипов, которая не колется. Познание мира начинается для героя со знакомства с варварскими народами и государствами, когда его похищает «Хан киргизский» – непросвещенный правитель. Следующая ступень после властителя – придворные, которые подвержены многим слабостям: они веселящиеся, ленивые, льстивые или брюзжащие, но такие недостатки присущи свету. После двора Хлор знакомится с горожанами – мещанами и купечеством, которые отличаются от светских людей хамством и грубостью.
Восхождение на гору начинается с того, что царевич Хлор постигает условия жизни тех, кто живет физическим трудом, – крестьян: «Путешественники, которые проголодались, ничем не гнушались и меж тем разговаривали с хозяином и хозяйкою, кои им рассказывали, как они живут здорово, весело и спокойно и во всяком удовольствии по их состоянию, провождая век в крестьянской работе и преодолевая трудолюбием всякую нужду и недостаток» [Екатерина II 1990: 124–125]. Затем знакомится с теми, кто трудится умственно, – обучающимися наукам юношами. Наконец, высшую ступень достигают те, кто трудится нравственно, и именно здесь, по всей видимости, в саду, где растет роза без шипов, царевич Хлор обретает земное счастье.
Изображение взаимозависимого счастья дворян и крестьян находит отражение и в книге Болотова, в которой разговор между девушками о платьях переходит в рассказ о понимании семьи, описываемой писателем, нужд своих кормильцев - крестьян: «Прошлою зимою за недородом хлеба мужикам нашим есть было нечего, и мы принуждены были последние деньги на покупку им хлеба употребить, да немало о том и не тужим, довольны тем, что они у нас по миру не ходили, как у других» [Болотов Ч. 1, 1776: 398–399]. Однако смысловые акценты расставляются автором иначе, чем у писательницы-императрицы, пред- ставляющей на суд читателей социальную утопию. Болотов подчеркивает наличие различия между представителями одного сословия, которое заключается в выборе или отрицании ими законов нравственного самосознания, сопряженных как с религиозными заповедями, так и учением физики. Например, в «Предисловии» к «Разговорам…» он пишет: «Познание Бога, мира и человека есть неоспоримо превосходнейшее, но вкупе и полезнейшее и нужнейшее познание из всех прочих познаний человеческих» [там же: 3].
Екатерина II начинает «Бабушкину азбуку» с моральных заповедей светского человека, понимающего важность учения в просветительской системе координат: «Перед Богом все люди равны», «Всякое дитя родится не учено», «Долг родителей есть дать детям учение» [Екатерина II 2004: 14–15]. И хотя провозглашаемое императрицей равенство всех граждан в государстве указывало на постулаты просветителей, следующие фразы подчеркивали иерархические отношения родителей-детей, что знаменовало новые, семейные, формы общения в просвещенноабсолютистском государстве, поскольку «Власть поручена единому ради чинения польз множеству» [там же]. В то же время и Екатерине, и Болотову для осуществления воспитания необходимы посредники – реальные, как в «Детской философии» («Учительница: Учитесь, учитесь, любезные дети! Нельзя ничему лучше и полезнее для вас быть такой науке, какой вас ваша матушка обучает. … Поистине можно сказать, что она ученая госпожа и вы под предводительством такой родительницы можете тысячу польз получить и счастливыми сделаться» [Болотов Ч. 2, 1776: 4]), или аллегорические, как в «Сказке о царевиче Хлоре». И если защиту царевичу Хлору осуществляет та, которая имеет волшебные рычаги управления разными силами, то спасение от ударов судьбы герои Болотова ищут именно в нравственном идеале и знаниях о мире. Вследствие этого по-разному выстраивается у авторов и диалог с читателем.
Двойственность «галантного диалога» позволяла Екатерине II адресовать свое сочинение не только детскому (потенциально главному читателю сказки – великому князю Александру Павловичу ко времени написания сказки было не более пяти лет), но и взрослому сознанию, а в царевиче Хлоре аллегорически зашифровать не только своего внука, но и русское дворянство, по-матерински воспитываемое императрицей. Этот же прием прослеживается и в «Бабушкиной азбуке», в которой, правда, и вопросы, и ответы даются самой императрицей и не требуют какого-либо комментария со стороны читателя. Другое дело – жанр салонной сказки, который поз- волял контекстно создавать диалоговую ситуацию, чем и воспользовался Г. Р. Державин в оде «Фелица».
Совершенно иначе работает с детским сознанием А. Т. Болотов. Развлекательная составляющая его произведения реализуется в театральной форме, поэтому диалоги между матерью и детьми, а также между детьми изображаются по сценическим правилам:
Г. Мел инда (к Клеону, который в самое то время вошел в сад): Скажите, батюшка, пожалуйте, какой науке вы с сестрицею учитесь?
Клеон : Я, сударыня, не знаю, как она называется, только знаю, что она нам очень нужна и учит, как нам себя счастливыми сделать, и очень весела.
Г. Мел инда : О! Поэтому надобно это какой-нибудь особливой науке быть, о какой я не слыхивала.
Кл е о н : Конечно, сударыня, не слыхивали, да и учимся мы ей не так, как прочим наукам учатся. Мы, так сказать, играючи ей обучаемся. Матушка изволит с нами гулять и нам рассказывать, а мы только слушаем [Болотов Ч. 1, 1776: 385–386].
Все, не относящееся к беседе, подается в виде ремарки, в том числе и авторские отступления. Ср.: ремарка из первого разговора: «Феона (приехав из гостей от госпожи Доримены вместе с братом своим Клеоном)» [там же: 1]; из третьего разговора: «Г. Ц. (пришед в сад и увидя детей своих в аллее ходящих)» [там же: 34]; из четвертого разговора: Клеон (будучи с сестрою своею уже в саду, увидев мать свою к себе идущую) [там же: 65].
Более того, законы классицистической пьесы диктуют Болотову соблюдение единства места и времени: беседы проходят в одно и то же время (после обеда) и в одном и том же месте (в беседке), а диалог, как правило, не прерывается другими сюжетными линиями, что позволяет говорить и о единстве действия. Повествовательная драматургия дает автору возможность сконцентрироваться на изменении, происходящем в сознании героев, показать, как от непослушных детей они превращаются во вдумчивых взрослых, разбирающихся в непростой жизни их матери-вдовы: «Вам необходимо, мои любезные дети, знать, что хотя так и кажется нам, что все на свете по слепому случаю нечаянно или просто делается. Например: нам кажется, что это так просто и по случаю сделалось, что у вас теперь отца нет, что я ваша мать, а вы мои дети, что мы живем здесь в деревне, что у нас есть люди и крестьяне; они на нас работают и нам служат; или что у вас в прошлом году брат умер, а теперь, например, тетка ваша больна, дядя на войне убит…» [Болотов Ч.1, 1776: 66]. Поэтому именно вопросы детей становятся показателем происходящих с ними изменений, воспроизведением этапа взросления: «Кл е о н : Что касается до меня, то мне как-то сие удивительно и я как-то не очень сие понял, не можно ли, матушка, растолковать мне сие яснее?» [там же: 304].
Герой сказки Екатерины по закону жанра эпичен, ему дано все изначально, в том числе и знание, что уже отличает его от всех остальных детей. Его задача – пройти испытание, которое вызвано изменением обстановки: Дом – плен, чужие края, непросвещенное окружение. Поскольку получить знание в непросвещенной стране сложнее, автор вводит аллегорических персонажей-посредников, например, Рассудок – учитель человечества от ошибок – должен привести героя к добродетели и продемонстрировать непросвещенному правителю мудрость царевича Хлора. Имитация фольклорной сказки – один из признаков жанра, формирующегося в салоне и отвечающего параметрам галантного стиля и «галантного диалога». В то же время обращает на себя внимание странное имя героя екатерининской сказки – Хлор. В 1774 г. Карл-Вильгельм Шееле (1742–1786) открывает новый химический элемент – хлор, а в 1777 г. (в год рождения великого князя Александра Павловича) появляется сочинение шведского ученого на немецком языке «Химический трактат о воздухе и огне» («Abhandlungen von der Luft und dem Feuer») [Шееле 1903: 367]. Знаменательно, что Фридрих II безуспешно приглашает шведа, работающего аптекарем, занять пост профессора Берлинского университета. В 1781 г. (в год написания сказки) труд шведского ученого появляется на французском языке. И Екатерина II демонстрирует западным читателям свое знакомство с трудом ученого-химика, ведя уже ученую беседу с взрослым сознанием.
Таким образом, представленная в детских произведениях философия разнится по тому, каким у императрицы и писателя-ученого видится мир глазами ребенка: наделенным мудростью и добродетелью, который имеет мистический характер и понятен лишь посвященным, или рисуется картина мироустройства, зависимого от существующего правления и личности монарха. Следует заметить, что социальный статус, безусловно, учитывался писателями как фактор влияния на формирование детского мировоззрения, однако значительное различие во взглядах детей предопределялось другими обстоятельствами: возрастом (а это значит, что впервые возникает возрастная градация в поведении детей), общением и чтением книг. И в этом и Екатерина, и Болотов были единодушны. Созданные ими произведения диалоговой формы претендовали на право первых книг – т. е., книг, формирующих начальные понятия об окружающем мире. Данная функция указывала на характер инициации, который неизменно возникал при обоих типах диалога, однако именно выбор пути в достижении разных целей заставлял сочинителей прибегать к различным изобразительным приемам.
По-разному писательница-императрица и писатель-ученый выстраивали в своих книгах формулу счастья. Болотов учил детей находить его в самом себе, в работе своего сознания и разграничении своего и чужого в окружающем мире, чему соответствовал поиск гармонии душевной, не связанной с жизнью света. «Ученая беседа» автора «Детской философии» заключалась в раскрытии неразделимых религиозных и светских знаний, сообщаемых напрямую, поданных в виде вопросов-ответов, которые озвучивались новыми героями прозы XVIII в. – женщинами и детьми, являющимися, в отличие от ученых-педантов, непросвещенными людьми, от чего воспитательный потенциал произведения лишь усиливался.
Екатерина II, используя «галантный диалог», зашифровывала в сказке идеи о гармонизации социального устройства и воспитывала читателей жить в обществе таким образом, чтобы их жизнеустройство не мешало получению удовольствия от жизни другим лицам. «Бабушкина азбука» демонстрировала умелое сочетание религиозных воззрений со светскими, гражданскими законами, что также отвечало задачам государыни создавать справедливое мироустройство, в котором каждый должен найти свое место, руководствуясь разумными действиями.
Ogarev Mordovia State University
ResearcherID: J-1391-2018
Список литературы "Галантный диалог" и "ученая беседа" с детским сознанием: Екатерина II и А. Т. Болотов
- Артемьева Т. В. Микешин М. И. Страсти души Андрея Болотова. Детская философия. СПб.: ИД «Петрополис», 2012. 854 с.
- Блудилина Н. Д. Предисловие // Россия и Запад: Горизонты взаимопознания. Литературные источники XVIII века (1726-1762). М.: ИМЛИ РАН, 2003. Вып. 2. С. 8-57.
- Болотов А. Т. Детская философия, или нравоучительные разговоры между госпожою и ее детьми, сочиненные для поспешествования истинной пользе молодых людей. М.: Императорский Московский университет, 1776. Ч. 1. 401 с.; 1779. Ч. 2. 368 с.
- Болотов А. Т. Мысли и беспристрастные суждения о романах как оригинальных российских, так и переведенных с иностранных языков Андрея Болотова // Литературное наследство. М.: ИМЛИ РАН, 1933. Т. 9-10. С. 190-199.
- Веселова А. Ю. Натурологическая поэзия А. Т. Болотова // Память как механизм культуры в русском литературном процессе (памяти Риммы Михайловны Лазарчук). Череповец: Череповец. гос. ун-т, 2014. С. 28-34.
- Веселова А. Ю. Садово-парковое искусство и праздничная культура в России XVIII - начала XIX века // Окказиональная литература в контексте праздничной культуры России XVIII века. СПб.: Филол. фак-т СПбГУ, 2010. С. 356-403.
- Данилевский Р. Ю. 1725 - начало 1760-х годов: Классицизм // История русской переводной художественной литературы. Древняя Русь. XVIII век. Т. 1: Проза. СПб.: ИРЛИ РАН (Пушкинский Дом), 1995. С. 94-141.
- Екатерина II. Бабушкина азбука великому князю Александру Павловичу. М.: МГИ им. Е. Р. Дашковой, 2004. 96 с.
- Екатерина II. Сочинения. М.: Современник, 1990. 557 с.
- Имендёрфер Е. Первые детские басни в России XVIII века // Русская литература. 1998. № 2. С.51-64.
- Императрица Екатерина II. Цесаревич Павел Петрович и Великая княгиня Мария Федоровна. Письма, заметки и выписки. 1782-1796. СПб.: Тип. В. С. Балашева, 1874. V, 214, 30 с.
- Ипатова С. А. К вопросу о литературных источниках «Сказки о царевиче Хлоре» Екатерины II // Пушкинские чтения 2009: материалы XIV междунар. науч. конф. СПб.: ЛГУ им. A. С. Пушкина, 2009. С. 162-170.
- Клейн И. Пути культурного импорта: Труды по русской литературе XVIII века. М.: Языки слав. культуры, 2005. 576 с.
- Кочеткова Н. Д. Тема «золотого века» в литературе русского сентиментализма // XVIII век. СПб.: Наука, 2003. Сб. 18. С. 172-186.
- Лавровский Н. А. Педагогические руководства Екатерины II // Покровский В. И. Екатерина II. Её жизнь и сочинения: сб. историко-литературных статей. Изд. 2-е. М.: Склад в книжном магазине B. Спиридонова и А. Михайлова, 1910. С. 95-119.
- Лепренс де Бомон, М. Детское училище, или Разговоры благоразумной наставницы с ея воспитанницами / пер. с фр. М.: Губ. тип., у А. Решетникова, 1800. 382 с.
- Лотман Ю. М. «Езда в остров любви» Тредиаковского и функция переводной литературы в русской культуре первой половины XVIII в. // Проблемы изучения культурного наследия. М.: Наука, 1985. С. 222-230.
- Лотман Ю. М. Руссо и русская культура XVIII - начала XIX века // Лотман Ю. М. Собрание соч. Т. 1: Русская литература и культура Просвещения. М.: ОГИ, 2000. С. 139-206.
- Радовский М. И. Антиох Кантемир и Петербургская Академия наук. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1959. 112 с.
- Привалова Е. П. А. Т. Болотов и театр для детей // XVIII век. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. Сб. 3. С. 242-261.
- Пумпянский Л. В. К истории русского классицизма // Пумпянский Л. В. Классическая традиция: Собрание трудов по истории русской литературы. М.: Языки рус. культуры, 2000. С. 30-157.
- Строев А. Ф. Судьбы французской сказки // Французская литературная сказка XVII-XVIII веков. М.: Худож. лит., 1990. С. 5-32.
- Тиманова О. И. Русская литературная сказка второй половины XVIII - первой половины XIX века: становление жанра. СПб.: Наука, САГА, 2007. 330 с.
- Тредиаковский В. К. Разговор между Чужестранным человеком Российским об орфографии старинной и новой и всем, что принадлежит к сей материи. СПб.: Имп. Акад. наук, 1748. 464 с.
- Шееле К.-В. // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 1903. Т. XXXIX. С. 367.
- Шкляр И. В. Формирование мировоззрения Антиоха Кантемира // XVIII век. М.; Л.: Наука, 1962. Сб. 5. С. 129-152.
- Cazanave C. Le dialogue au XVIIe siecle en France: un genre francais moderne ? Elements pour une mise au point // Dix-septieme siecle. 2005/3 (n°228). P. 427-441.