Гамбургский счет
Автор: Зубаревич Наталья
Журнал: Прямые инвестиции @pryamyye-investitsii
Рубрика: Самое важное
Статья в выпуске: 4 (84), 2009 года.
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/142169086
IDR: 142169086
Текст статьи Гамбургский счет
В стране быстро растет безработица.
Функции борьбы с нею переданы регионам. Но 43,7 млрд. руб., выделенных правительством страны для стабилизации положения на рынке труда, явно недостаточно.
Кому вершки, кому корешки
Федеральный центр в последние годы вел себя как скупой рыцарь, перераспределяя в свою пользу налоговые поступления. В начале 2000-х годов доходы делились поровну между центром и регионами, а в 2007 году это соотношение было 62:38 в пользу центра. Конечно, потом часть денег возвращалась в регионы в виде трансфертов, и после перераспределения соотношение расходов оставалось 52:48 в пользу федерального бюджета. При этом центр забрал себе самые стабильные и легко собираемые доходы, а регионам оставил два базовых — налог на прибыль (сохранив за собой его часть) и налог на доходы физических лиц. И тот и другой в период кризиса сокращаются. Уже к январю поступление налога на прибыль в региональные бюджеты уменьшилось на треть. А ведь для более развитых регионов это бюджетоформирующий налог, почти в трети регионов страны его доля в доходах бюджета составляет от 25 до 48%. Максимальное сокращение налога на прибыль — в 3–5 раз — произошло в экономически сильных регионах, где находятся крупнейшие российские предприятия. С началом кризиса они оказались в очень тяжелом положении.
Начали сокращаться и поступления налога на доходы физических лиц вследствие роста безработицы, снижения или задержек заработной платы. У бюджетников она сохраняется, но в промышленном производстве снижается довольно сильно из-за перевода на сокращенную рабочую неделю, вынужденных отпусков или оплаты только тарифной части зарплаты.
Таким образом, основные кризисные издержки несут бюджеты субъектов Федерации. Регионы, в свою очередь, ограничивают объемы перераспределения для поддержки бюджетов муниципальных образований. У большинства муниципалитетов налоговая база минимальна, они живут за счет перечислений из региональных бюджетов. Города и районы становятся заложниками кризисной ситуации еще в большей мере, чем регионы. Одновременно растут социальные расходы бюджетов регионов. Реформы середины 2000-х годов, в том числе монетизация льгот, переложили большую часть социальных расходов на региональные бюджеты. С прошлого года регионам переданы полномочия в сфере занятости вместе с небольшой суммой денег для обеспечения этой деятельности.
Но план разрабатывался в благополучных экономических условиях, а сейчас безработица выросла. В результате регионам надо финансировать возросшие объемы пособий по безработице, малоимущим семьям, детские пособия, субсидии на оплату ЖКХ и т.д. А денег в бюджетах регионов стало меньше.
В кризисных условиях регионы не смогут без федеральной поддержки. Первый вопрос, на каких принципах федеральный центр должен распределять деньги? Этот процесс должен быть транспарентным и системным. Но пока это не так.
Посмотрим последнее распределение трансфертов в конце декабря 2008 года. Самые большие дотации получили слаборазвитые республики Северного Кавказа, которых кризис вообще еще не затронул. В то же время
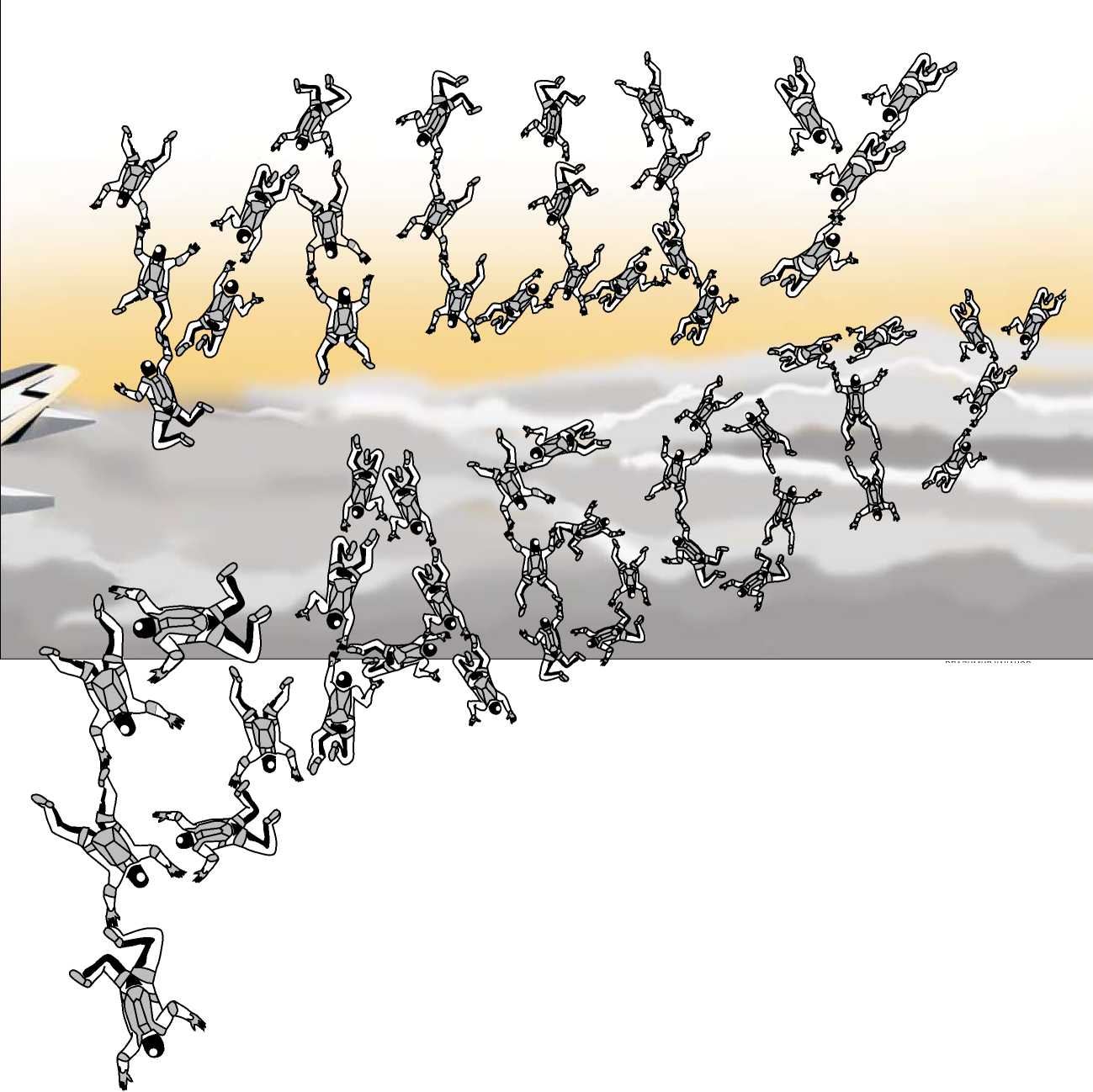
ВЛАДИМИР ХАХАНОВ основанный на оценке темпов спада, бюджетных рисках и других объективных индикаторах. Иначе выиграют сильнейшие в подковерной борьбе губернаторов а деньги.
Вологодская область, где спад производства в ноябре — декабре достиг 40%, не получила ничего.
Помогать регионам все равно придется, никуда от этого не уйти. Нужен прозрачный механизм распределения средств,
Грезы Манилова
В стране быстро растет безработица. Функции борьбы с нею переданы регионам. В кризисных условиях действия государства должны быть организованы по двум векторам — пассивная политика и активная.
Первый — выплаты пособий по безработице. Службы занятости должны проверять, насколько уволенные нуждаются в пособиях, и выплачивать их. Однако эти организации в 2000-е годы находились в расслабленном состоянии, после передачи полномочий на региональный уровень многое придется создавать заново, навыки 1990-х годов утрачены. Но самое главное — на пособия нужно все больше денег, которых у регионов нет.
Второй вектор — активная политика занятости, федеральная власть сделала акцент именно на ней. Здесь выделены четыре направления.
Первое — общественные работы. Минздравсоцразвития планирует задействовать в них миллион человек. К февралю число зарегистрированных безработных достигло 1,9 млн., следовательно, каждого второго безработного планируют привлекать к оплачиваемым государством временным работам. Они могут быть разными, например дорожное строительство, как в США во времена Великой депрессии. Но трудно представить, что уволенные из офисов белые воротнички пойдут строить и ремонтировать дороги. Вряд ли удастся отправить на эти работы инженеров или работников бюджетной сферы. Дорожное строительство, ремонт зданий и тому подобные работы — тяжелый физический труд.
В принципе разумно направить на строительство дорог высвобождаемых рабочих промышленных предприятий. Но нужно иметь фронт работ, а в скорректированном федеральном бюджете вложения в строительство дорог сокращаются на треть. Эту тему можно закрыть, потому что, во-первых, не понятно, сколько людей привлекать на общественные работы, а во-вторых, для оплаты их труда слишком мало денег. Миллион занятых на общественных работах — это маниловщина. А если говорить прямо, способ «распила» бюджетных средств.
Второе направление антикризисной политики на рынке труда — переподготовка кадров. Правительство намерено переобучить 160 тыс. человек. Конечно, можно учить кого угодно и чему угодно, когда человек учится — он занят. В результате обучения он повышает свою капитализацию на рынке труда. Но желательно понять, какие
Примеров успешной активной политики на рынке труда в мире не так много. В большинстве стран безработные сидят на пособиях.
именно специальности и квалификации будут востребованы на рынке. Этого система повышения квалификации и профессиональной подготовки не смогла определить и до кризиса. И никто не спросил у бизнеса, какие кадры ему будут нужны в ближайшем будущем. Соответственно, практически нет ориентированных на нужды производства программ переобучения.
Третье направление — переселение безработных туда, где возможно их трудоустройство, планируется переселить до 100 тыс. человек. Это — маниловщина в квадрате. Мой коллега, ведущий научный сотрудник Института демографии Государственного университета — Высшая школа экономики Никита Мкртчан проанализировал федеральный сайт вакансий Минздравсоцразвития. 6% свободных мест — с минимальной оплатой труда (4–5 тыс. руб.). Еще 6% вакансий — с зарплатой до 8 тыс. руб. Куда и кого можно переместить на эти деньги? Только 12% вакансий с оплатой более 20 тыс. руб. Вроде бы для провинции неплохие деньги. Но две трети этих предложений — в Москве и Московской области. На какие деньги приехавший туда безработный сможет снять жилье? Подъемные при переселении выделяются на несколько месяцев. А дальше что?
При этом спрос на работников в Москве и Московской области сжимается. Число гастарбайтеров, по оценкам экспертов, уже уменьшилось вдвое. На какие рабочие места могут претендовать приехавшие из российских регионов — совершенно не понятно. Вряд ли они пойдут на стройки, потому что работодателям дешевле нанять гастарбайтеров. Последнее направление — развитие малого бизнеса. Правительство предполагает, что 60 тыс. человек займутся малым предпринимательством, откроют свой бизнес. Посмотрите статистику: в тучные годы количество занятых на малых предприятиях не росло или даже сокращалось во многих регионах. В Москве в малом бизнесе трудилось в 2000 году 30% работающих, к 2008 году — 28%, в Петербурге доля занятых сократилась с 28 до 26%. Причина очевидна: в России неблагоприятна среда для развития предпринимательства.
Безработному для старта малого бизнеса могут выделить около 60 тыс. руб. В деревне на эти деньги можно корову купить, торговать молоком и творогом, а если теленка зарезать и продать мясо, хватит на платное обучение ребенка в каком-нибудь филиале третьеразрядного вуза. Но ведь это не малый бизнес, это самозанятость или приработок от личного подсобного хозяйства.
В городе малому бизнесу надо оплачивать аренду помещения, подключение к электросетям, газовым и тепловым коммуникациям. А это стоит раз в десять больше выделенных 60 тыс. Лучше бы облегчили доступ к инфраструктуре для малого бизнеса.
Если безработные — это люди активные, рано или поздно они находят на рынке труда возможности приложить свои силы и способности. Люди с худшими ресурсами (здоровьем, образованием, мобильностью) оседают на дно, и таких немало. Привлечь их активными мерами на рынок труда довольно сложно.
Правительство РФ выделяет 43,7 млрд. руб. «для стабилизации положения на рынке труда». Но этих денег будет достаточно только для активных программ (переобучение, перемещение, создание малых предприятий). Что же касается пассивной политики (выплата пособий по безработице), то необходимая сумма пока просто не рассчитана. Правительство в январе говорило об 1 млн. официально зарегистрированных безработных, а в феврале их оказалось вдвое больше. И сейчас никто не может точно сказать, сколько людей обратится за пособиями весной и летом.
В России базовой проблемой были и остаются институты. И опять проблема не только в коррупции. Трудовой кодекс у нас жесткий, уволить работника, даже нерадивого, непросто. Из-за кризиса все еще больше ужесточилось, над работодателем стоит прокурор и проверяет, кого и как увольняют. А губернатор по цифрам роста безработицы отчитывается перед центром. Фактический полузапрет на увольнения будет тормозить высвобождение рабочей силы. Но все имеет свою цену: с началом экономического роста медленно и плохо будут создаваться новые рабочие места.
Кризис показал, что мы явно переоценивали качество своего роста и качество своих институтов. Как только глобальный мир выставил гамбургский счет, все наши болячки и дисбалансы вылезают наружу.
Что надо изменить
В первую очередь надо снижать барьеры развития предпринимательства. Есть две главные проблемы: коррупционная рента, которую чиновники получают с малого бизнеса, и огромные издержки на начальном этапе. Об этом, кстати, много говорилось на Красноярском экономическом форуме в конце февраля. Причем «градус» обсуждения этих проблем повышается по мере нарастания кризиса.
Государство просто обязано заняться этими проблемами самым срочным образом, иначе не трудоустроить людей в крупных городах. Сейчас рынок труда в столицах сжимается, и работники, приехавшие из других регионов и стран, возвращаются домой. Надо как-то продержаться. Первыми, как только появятся признаки экономического роста, будут оживать большие города.
В так называемых монопрофильных промышленных городах проблема занятости более долгосрочная, для них неизбежны длительные выплаты безработным. Здесь нужно учить молодежь и повышать ее мобильность.
И, наконец, пора в разы сократить вал отчетности, запрашиваемой федеральными органами власти — регионам виднее, что нужно делать.
В основе падения конкурентоспособности страны лежит немыслимая коррупция на всех уровнях. У нас институты не просто плохие, они еще очень развращенные. Государственное регулирование экономики превратилось по существу в систему откатов и рентных платежей. Государство бизнесу не помогает, а мешает. Поэтому решение проблемы в условиях кризиса должно быть простым: если не можешь помочь, отойди и не мешай. Ведь откаты — это следствие «халявного» перераспределения нефтяной ренты. Когда деньги из воздуха, ниоткуда и их много, результатом становится деформация институтов. Мы сейчас платим за это тоже.
Видимо, нам еще не раз придется подниматься и падать, потому что пока в обществе нет запроса на правильные институты. Мало еще людей, понимающих, что именно модернизация институтов определяет возможности качественного роста. е


