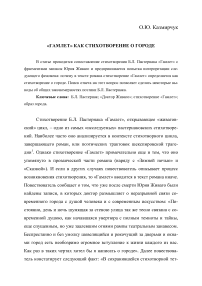«Гамлет» как стихотворение о городе
Автор: Казмирчук Ольга Юрьевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Рубрика: Пооэтика романа Б.Л. Пастернака "Доктор живаго"
Статья в выпуске: 3 (18), 2011 года.
Бесплатный доступ
В статье проводится сопоставление стихотворения Б.Л. Пастернака «Гамлет» с фрагментами записок Юрия Живаго и предпринимается попытка интерпретации следующего феномена: почему в тексте романа стихотворение «Гамлет» определяется как стихотворение о городе. Поиск ответа на этот вопрос позволяет сделать некоторые выводы об общих закономерностях поэтики Б.Л. Пастернака.
Б.л. пастернак, "доктор живаго", стихотворение "гамлет", образ города
Короткий адрес: https://sciup.org/14914305
IDR: 14914305
Текст научной статьи «Гамлет» как стихотворение о городе
Стихотворение Б.Л. Пастернака «Гамлет», открывающее «живагов-ский» цикл, – одно из самых «исследуемых» пастернаковских стихотворений. Наиболее часто оно анализируется в контексте стихотворного цикла, завершающего роман, или поэтических трактовок шекспировской траге-дии1. Однако стихотворение «Гамлет» примечательно еще и тем, что оно упомянуто в прозаической части романа (наряду с «Зимней ночью» и «Сказкой»). И если в других случаях повествователь описывает процесс возникновения стихотворения, то «Гамлет» вводится в текст романа иначе. Повествователь сообщает о том, что уже после смерти Юрия Живаго были найдены записи, в которых доктор размышляет о неразрывной связи современного города с душой человека и с современным искусством: «Постоянно, день и ночь шумящая за стеною улица так же тесно связана с современной душою, как начавшаяся увертюра с полным темноты и тайны, еще спущенным, но уже заалевшим огнями рампы театральным занавесом. Беспрестанно и без умолку шевелящийся и рокочущий за дверьми и окнами город есть необозримо огромное вступление к жизни каждого из нас. Как раз в таких чертах хотел бы я написать о городе». Далее повествователь констатирует следующий факт: «В сохранившейся стихотворной тет- ради Живаго не встретилось таких стихотворений», – и высказывает предположение, – «Может быть, стихотворение “Гамлет” относилось к этому разряду?» (Т. 3. С. 482)2.
Сопоставление стихотворения «Гамлет» с записями Живаго уже проводилось исследователями3. Даже при беглом сравнении становится очевидным, что ряд тем и мотивов прозаического отрывка так или иначе реализуется в «Гамлете»: тема театра, отождествление театра и жизни, проблематика соотнесенности мира внешнего и мира внутреннего, мотив доносящегося извне шума. В цитированном отрывке имплицитно присутствует и столь значимый для стихотворения «Гамлет» мотив предчувствия. Однако не менее очевидно и то, что без соотнесения стихотворного текста с записями Живаго в «Гамлете» невозможно обнаружить проблематику города (точно так же, как вне соотнесения текста стихотворения с его названием не прочитывается гамлетовский сюжет). Почему же сам Пастернак предлагает интерпретировать этот текст как стихотворение о современном городе?
Вероятно, ответить на этот вопрос можно, обратившись к истории создания стихотворения «Гамлет», точнее, к его «предыстории». Моментом зарождения концепции, реализованной в пастернаковском «Гамлете», может являться письмо, написанное Пастернаком С.П. Боброву 2 августа 1913 г4. Письмо содержит сравнительный анализ двух видов искусства, кинематографа и театрального спектакля, драмы, (как предполагают биографы Пастернака, в это время С.П. Бобров пытался устроить друга на работу в кинематографическую фирму А.А. Ханжонкова)5. Характеризуя специфику театральной постановки, Пастернак пишет: «Драматичнее всего сцена: сама сцена, момент борения подмостков с зрительным залом, или реальности идеи с темным простором, в котором разменивается, в котором получает свое осуществление замышленная ценность идеи»6. Этот пассаж (мотив борьбы актера со зрительным залом) семантически близок мотивам и темам, заявленным в шести первых строках стихотворения «Гамлет». В том же письме Пастернак размышляет: «…Ты поймешь меня, если я назову действительность, и действительность города предпочтительно – лирической сценой как раз в том смысле, о котором я говорил. Именно город как сцена состязается и входит в трагическое соотношение с пожирающей нас аудиторией Слова и Языка»7. Итак, по мнению Пастернака, город – необходимое условие, своеобразный посредник, то особое место, благодаря которому художник контактирует со стихией языка. Пастернак продолжает: «Партеру предвечного Слова вольно думать, что его потрясенье вызвано нашей игрою – жизнью, созерцаемой и постигаемой им. Между тем зрительский экстаз Слова (искусство) вызван тем, к чему у него нет никакого доступа: бессловесной иррациональной материей, к которой мы пригвождаем его око (его значение) тем, что сосредотачиваем в нем свое, сродное ему, движение. А вслед за тем, за движением нашим и явилось сюда Слово, чтобы вперяться в него и его понимать»8.
Это письмо неоднократно попадало в поле зрения исследователей пастернаковского творчества. Так, Е.Б. Пастернак предполагал, что сформулированная в нем концепция искусства перекликается с разработками, изложенными в докладе «Символизм и бессмертие» (летом 1913 г. Б. Пастернак планировал написать книгу статей, объединенных этим названием). Кроме того, Евгений Борисович отмечал семантическое родство цитированного фрагмента и пастернаковских размышлений о природе искусства, позднее воплотившихся в «Охранной грамоте»9.
Сравнение письма 1913 г. с «прозаическим комментарием» к «Гамлету» было предпринято К.М. Поливановым в статье «Год самоопределения. Борис Пастернак с лета 1913 до лета 1914 года». Анализируя текст письма, исследователь приходит к следующим выводам: «В рассуждениях возникают образы человека – автора, художника – в большом городе, напоминающего артиста на сцене… – все это соприкасается с позднейшими рассуждениями о городе в “Докторе Живаго” в связи со стихотворением “Гамлет”»10.
Таким образом, нетрудно предположить, что уже в 1913 г., в процессе размышления над природой искусства у Пастернака возникла некоторая комбинация тем и мотивов, впоследствии оказавшаяся на удивление стабильной. Вот этот набор: судьба художника как постоянное борение (противостояние актера и зрительного зала), современный город как необходимое условие совершения акта творчества, наличие некоего высшего начала («предвечного Слова»), которое наблюдает за человеком-творцом, имплицитно угадываемая проблематика жертвы (распятия). Далее хотелось бы проследить, как именно эволюционирует семантический комплекс, возникший в письме к С.П. Боброву и позже реализованный в стихотворении «Гамлет». При этом особое внимание будет уделено тому, как «перераспределяется» информация: какие семантические блоки в окончательном варианте попадают в прозаическое «предисловие», какие – в стихотворный текст.
Письмо Пастернака к Боброву написано в августе 1913 г. Летом и осенью того же года создаются стихотворения, из которых Пастернак составляет свою первую книгу, «Близнец в тучах»; часть текстов, написанных осенью 1913 г., позднее вошли в книгу «Поверх барьеров»11. Тем интереснее проследить, есть ли в этих сборниках мотивы и темы, отвечающие концепции, которая сформулирована Пастернаком в письме к Боброву.
«Близнец в тучах» – это наименее известная и, соответственно, наименее исследуемая книга Пастернака, блистательный анализ которой был проделан М.Л. Гаспаровым и К.М. Поливановым. Среди образов и мотивов, организующих художественный универсум этой книги, исследователи называют творчество, ночь и город12 (именно эти константы заданы Пастернаком в письме к Боброву). Посмотрим: «Встав из грохочущего ромба /
Передрассветных площадей, / Напев мой опечатан пломбой / Неизбывае-мых дождей»; «Чтоб, ночью вздвоенной оправданы, / Взошли кумиры тусклым фронтом, / Чтобы в моря, за аргонавтами / Рванулась площадь горизонтом. / …Когда ж костры колоссов выгорят, / И покачнутся сны на рейде, / В какие бухты рухнет пригород, / И где, когда вне песен – негде?» («Ночное панно»); «Прижимаюсь щекою к улитке / Вкруг себя перевитой зимы: / Полношумны раздумия в свитке / Котлованной, бугорчатой тьмы. / …Под горячей щекой я нащупал / За подворье отброшенный шаг. / Разве нынче и полночи купол / Не разросшийся гомон в ушах? / …И о том, веселился иль плакал / И любим пешеход, иль нелюб / Мне споет океанский оракул / Перламутровой полостью губ» («Зима») (Т. 1. С. 432, 446, 449).
Во второй стихотворной книге Б.Л. Пастернака («Поверх барьеров») прослеживается та же семантическая цепочка: ночь – город – творчество. Теперь Пастернак объясняет, почему город способствует творчеству героя-поэта: город сам наделен творческой энергетикой, сам умеет творить (ср. стихотворение «Фантазм» и цикл «Петербург»). В стихотворении «Фан-тазм», написанном осенью 1913 г., имплицитно присутствует и тема театра – в отсутствии людей город как будто разыгрывает, повторяет события человеческой жизни, жизни Пушкина: «Спит, как убитая, Тверская, только кончиком / Сна высвобождаясь, точно сонной ручкой./ К ней-то и прикладывается памятник Пушкину, / И дело начинает пахнуть дуэлью, / Когда кто-то из новых воздушный / Поцелуй посылает ей лайковой метелью» (Т. 1. С. 643).
Сходные мотивы используются и в следующих книгах Б.Л. Пастернака, однако хотелось бы обратиться к стихотворениям, написанным с 1923 по 1929 г. и объединенным идеей посвящения, адресации.
17 декабря 1923 г. в Большом театре отмечалось 50-летие В.Я. Брюсова, на этом мероприятии Пастернак прочитал посвященное ему стихотворение. Данный текст представляет для нас особый интерес, поскольку в нем впервые появляется тема Гамлета («О! Весь Шекспир, быть может, только в том, / Что запросто болтает с тенью Гамлет») (Т. 1. С. 245). Эта тема уже включается в тот семантический комплекс, который намечен в письме к Боброву и позднее будет реализован в первом стихотворении «живаговского» цикла. Вот проблематика взаимоотношений отца и сына «Я поздравляю вас, как я отца / поздравил бы при той же обстановке…»13. Вот образ одинокого героя, противостоящего окружающему его миру: «Что мне сказать? Что Брюсова горька / Широко разбежавшаяся участь? / Что ум черствеет в царстве дурака? / Что не безделка – улыбаться, мучась?». Вот проблематика города («Что сонному гражданскому стиху / Вы первый настежь в город дверь открыли?»), наконец, тема жизни и смерти (точнее, тема преодоления смерти): «Что я затем, быть может, не умру, / Что, до смерти теперь устав от гили, / Вы сами, было время, поутру / Линейкой нас не умирать учили?» (Т. 1. С. 244).
Итак, в стихотворении «Брюсову» интересующая нас семантическая цепочка представлена наиболее полно, однако, по сравнению с «Гамлетом», здесь иначе расставлены смысловые акценты, образ Гамлета факультативен, он – лишь иллюстрация нестандартного мышления главного героя, В.Я. Брюсова.
Этот же цикл «посвящений» содержит еще один текст, отчасти предвосхищающий проблематику стихотворения «Гамлет». В пастернаковском «Гамлете» Бог, к которому обращается герой, имплицитно уподобляется сценаристу или режиссеру, в стихотворении «Мейерхольдам» (1928 г.) такое уподобление возникает впервые: «Так играл над землей молодою / Одаренный один режиссер, / Что носился, как дух, над водою / И ребро сокрушенное тер»14. Кроме того, в посвящении Мейерхольдам имеются мотивы затихающего гула («Гул отхлынул и сплыл, и заглох») и внешнего мира (мира города), присутствие которого ощущает лирический герой, а также имплицитно угадываемые мотивы смерти и добровольной жертвы
(«Рытым ходом в траншее залягте, / И, обуглясь у всех на виду, / Как дурак, я зайду к вам в антракте…», или «Вы всего себя стерли для грима, / Имя этому гриму – душа») (Т. 1. С. 230–231).
В книгу «Второе рождение» (1932) вошло стихотворение «О, знал бы я, что так бывает». Тема, разрабатываемая в этом тексте, и даже структура создаваемых поэтом образов во многом перекликаются с заданной еще в письме к Боброву проблематикой. Стихотворение строится на основе образов, семантически связанных с темой театра: дебют, актер, сцена; судьба художника интерпретируется как явление актера перед зрителями. Кроме того, в стихотворении формируется немаловажная антитеза: первоначальные установки героя-художника и его истинная судьба, уже предопределенная: «О, знал бы я, что так бывает, / Когда пускался на дебют, / Что строчки с кровью – убивают…»15 (Т. 1. С. 412). В стихотворении «Гамлет» аналогичное противопоставление ожидаемого и сбывшегося реализуется в попытке героя отказаться от предлагаемой ему роли, поскольку «сейчас идет другая драма». Близость этих двух текстов очевидна, она не раз являлась предметом исследования, для нас же важен тот факт, что в начале 30х гг. Пастернак пишет стихотворение, в котором воплощаются давно интересующие его семантические блоки: художник как актер, противопоставленный зрителям; художник, обреченный погибнуть; город как место реализации этого действа.
Следующим звеном этой своеобразной «тематической» цепочки является уже стихотворение «Гамлет». Первый вариант стихотворения «Гамлет» датируется февралем 1946 г.:
Вот я весь. Я вышел на подмостки, Прислонясь к дверному косяку, Я ловлю в далеком отголоске, Что случится на моем веку.
Это шум вдали идущих действий,
Я играю в них во всех пяти.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить – не поле перейти (Т. 3. С. 714).
Стихотворение начинается с мотива предчувствия (герой предчувствует свою судьбу, свою смерть, ведь в пятом действии трагедии он погиба-ет)16. Такое «знание» принципиально отличает лирического героя стихотворения «Гамлет» от героя произведения из книги «Второе рождение». Очевидно, что дар подобного предвидения объясняется соотнесенностью лирического героя с фигурой Христа. В окончательной редакции стихотворения появляется обращение к Отцу (к Богу, к режиссеру), герой просит избавить его от предначертанной гибели (молитва в Гефсиманском саду).
Окончательный вариант пастернаковского стихотворения «Гамлет» интересен, прежде всего, сложностью созданной в нем субъектной струк-туры17: герой уподобляется и актеру, и Христу одновременно, причем атрибутика, характеризующая этих субъектов и пространственные категории, практически совпадает.
Необходимо отметить и еще одну особенность художественной структуры пастернаковского «Гамлета»: в стихотворении, озаглавленном «Гамлет», нет ни одного мотива, непосредственно связанного с образом датского принца. Чтобы понять, почему в название стихотворения о предчувствии своей судьбы и о принятии ее вынесено имя Гамлета, надо учитывать пастернаковскую трактовку сюжета этой трагедии Шекспира.
Как известно, в конце 30-х гг. Б. Пастернак занимается переводом шекспировских пьес (первой он переводит трагедию «Гамлет»), а в 1946 г., в год написания стихотворения «Гамлет», поэт работает над «Замечаниями к переводам из Шекспира»18. Характеризуя специфику трагедии «Гамлет»,
Пастернак пишет о том, что до сих пор неверно трактовалось свойственное принцу «безволие». По мнению Пастернака, гамлетовское «безволие» – это добровольный отказ от собственной воли ради исполнения того, что предначертано свыше (Т. 4. С. 416). Так, знаменитый гамлетовский монолог Пастернак уподобляет молению в Гефсиманском саду. В этом контексте становится понятным отождествление образа Гамлета с фигурой Христа, ставшее основой для пастернаковского стихотворения «Гамлет»: судьба Гамлета – инвариант судьбы Христа, исполнившего предназначение вопреки собственным сомнениям и страхам.
И, тем не менее, в пастернаковском стихотворении образ Гамлета реализуется иначе, чем образы актера и Христа. Образ Гамлета, зафиксированный в названии, лишен самостоятельного воплощения, с большой долей вероятности можно говорить лишь об актере, играющем эту роль.
Представление о Гамлете как о роли, вероятно, заимствовано Пастернаком у Блока. В процессе работы над романом Б. Пастернак неоднократно писал о том, что одним из прототипов главного героя является А. Блок19 (имя Блока появляется и в уже цитированных записях Юрия Живаго, упоминается творчество Блока и отождествление с сущностью современного города, Т. 3. С. 481). В августе 1946 г. (год написания стихотворения «Гамлет») предполагалось отметить 25-летнюю годовщину со дня смерти Блока. В связи с этим Борис Пастернак собирался написать статью о Блоке, но потом отказался от этого замысла, успев сделать лишь короткие заметки20, в которых акцентировал значимость гамлетовской проблематики для мироощущения Блока21. Борис Пастернак оказался на редкость чутким читателем и прозорливым критиком, ведь о важности гамлетовской темы в творчестве Блока впоследствии писали многочисленные исследователи поэзии «серебряного века». И действительно, история создания стихотворений, в которых используется «гамлетовский» сюжет, позволяет с уверенностью утверждать, что А. Блок воспринимал этот литера- турный сюжет как некоторый личный код, во многом характеризующий его отношения с Любовью Дмитриевной Менделеевой22.
Исходя из предположения о том, что блоковская интерпретация образа Гамлета оказала влияние на пастернаковский текст, стоит особо отметить стихотворение, написанное А. Блоком в декабре 1898 г. «Мне снилась ты, в цветах, на шумной сцене…». В нем воплощены впечатления от домашнего спектакля, поставленного в августе 1898 г. в Боблове, в сценах из «Гамлета» принца датского играл А.А. Блок, а Офелию – Л.Д. Менделее-
23 ва
.
Характеризуя блоковское стихотворение «Мне снилась ты, в цветах, на шумной сцене…», нельзя не отметить его сложнейшую субъектную структуру: лирический герой – поэт, играющий роль Гамлета, поэт, влюбленный в исполнительницу роли Офелии: («…А я, повергнутый, склонял свои колени / И думал: “Счастье там, я снова покорен!” / Но ты, Офелия, смотрела на Гамлета / Без счастья, без любви, богиня красоты, / А розы сыпались на бедного поэта…»)24.
В стихотворении Блока происходит своеобразное «удвоение» сюжетных линий: «Гамлет – Офелия», «лирический герой – его возлюбленная». Аналогичный способ усложнения субъектной структуры реализован и усилен в пастернаковском «Гамлете», здесь субъект не «удваивается», а «утраивается» (Гамлет, актер, Сын Божий). Рискнем предположить, что пастернаковский вариант построения субъектной структуры текста оказался более эффектным, к тому же стихотворение, открывающее «живагов-ский» цикл, гораздо более известно, чем юношеское стихотворение Блока, а потому именно «Гамлет» Пастернака удостоился пристального внимания как исследователей-литературоведов, так и поэтов последующего поколе- ния
Возвращаясь к исходному сравнению стихотворения «Гамлет» с письмом, написанным Пастернаком летом 1913 г., еще раз отметим, что из перечня заявленных в письме тем и мотивов, прошедших сквозь все творчество Пастернака, в «Гамлете» не нашла непосредственного отражения лишь тема города. Объяснение этого феномена может выглядеть так: город – категория пространства, а в стихотворении «Гамлет» мотивы и образы, характеризующие пространство, поддерживают, организуют сложнейшую субъектную структуру. Вероятно, Пастернак не решился перегружать дополнительными коннотациями еще и эту сферу. Однако тема города прочно ассоциировалась у Пастернака с данным тематическим комплексом, поэтому и был создан прозаический комментарий к «Гамлету», в котором пастернаковский архетип реализовался во всей своей полноте26.
И все же позднее Б. Пастернак напишет текст, в котором воплотятся все заявленные в юношеском письме к С.П. Боброву мотивы и образы: одинокий герой-актер, противопоставленный миру (зрительному залу), герой, осмысляющий себя в пространстве современного города, герой, чувствующий стихию времени и контактирующий с высшим, божественным началом, герой, принимающий смерть и преодолевающий ее27. Справедливости ради нельзя не отметить и некоторых отличий более позднего текста от стихотворения «Гамлет»: главная роль отведена там не шекспировскому герою, а героине Шиллера, Марии Стюарт. Этот текст – «Вакханалия» – войдет в последнюю поэтическую книгу Б.Л. Пастернака «Когда разгуляется». Исследователи до сих пор затрудняются с определением того, к какому жанру принадлежит «Вакханалия»: большое стихотворение, стихотворный цикл, маленькая поэма. Как бы то ни было, именно большой объем текста позволит Пастернаку объединить и проинтерпретировать все те идеи, которые волновали его еще в самом начале литературной карьеры.
Таким образом, поиск образа города в стихотворении «Гамлет» позволяет еще раз задуматься о том, насколько правомерны попытки активного противопоставления мироощущения «раннего» и «позднего» Пастер- нака.
-
1 Подробнее об этом см., например: Ржевский Л. Язык и стиль романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго» // Борис Пастернак, 1890–1960 = Boris Pasternak. 1890–1960. Paris, 1979. С. 151–172; Фарыно Е. Поэтика Пастернака («Путевые записки» – «Охранная грамота»). Wien, 1989. С. 299, 345–346; Бак Д.П. «Доктор Живаго» Б. Пастернака: функционирование лирического цикла в романном целом // Роман и повесть в классической и современной литературе. Махачкала, 1992. С. 93–103; Левин Ю. Гамлет и Офелия в русской поэзии // Шекспировские чтения. 1993. М., 1993. С. 125–130; Поливанов К.М. «Гамлет» // Поливанов К.М. Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения. М., 2006. С. 261–267.
Podrobnee ob jetom sm., naprimer: Rzhevskij L. Jazyk i stil' romana B.L. Pasternaka «Doktor Zhivago» // Boris Pasternak, 1890–1960 = Boris Pasternak. 1890–1960. Paris, 1979. S. 151–172; Faryno E. Pojetika Pasternaka («Putevye zapiski» – «Ohrannaja gramota»). Wien, 1989. S. 299, 345–346; Bak D.P. «Doktor Zhivago» B. Pasternaka: funkcionirovanie liricheskogo cikla v romannom celom // Roman i povest' v klassicheskoj i sovremennoj literature. Mahachkala, 1992. S. 93–103; Levin Ju. Gamlet i Ofelija v russkoj pojezii // Shekspi-rovskie chtenija. 1993. M., 1993. S. 125–130; Polivanov K.M. «Gamlet» // Polivanov K.M. Pasternak i sovremenniki. Biografija. Dialogi. Paralleli. Prochtenija. M., 2006. S. 261–267.
-
2 Все тексты Б.Л. Пастернака цитируются с указанием тома и страниц по изданию: Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5 т. М., 1989–1992.
Vse teksty B.L. Pasternaka citirujutsja s ukazaniem toma i stranic po izdaniju: Pasternak B.L. Sobranie sochinenij: v 5 t. M., 1989–1992.
-
3 См., например, комментарий В.М. Борисова и Е.Б. Пастернака: Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. М., 1990. С. 714–715.
Sm., naprimer, kommentarij V.M. Borisova i E.B. Pasternaka: Pasternak B.L. Sob-ranie sochinenij: v 5 t. T. 3. M., 1990. S. 714–715.
-
4 Одним из первых на это письмо обратил внимание К.М. Поливанов. См.: Поливанов К.М. Борис Пастернак с лета 1913 до лета 1914: год самоопределения // Гаспаров М.Л., Поливанов К.М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария. М., 2005. С. 23–24.
Odnim iz pervyh na jeto pis'mo obratil vnimanie K.M. Polivanov. Sm.: Polivanov K.M. Boris Pasternak s leta 1913 do leta 1914: god samoopredelenija // Gasparov M.L., Polivanov K.M. «Bliznec v tuchah» Borisa Pasternaka: opyt kommentarija. M., 2005. S. 23–24.
-
5 См. комментарий Е.В. Пастернак и К.М. Поливанова: Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. М., 1992. С. 596.
Sm. kommentarij E.V. Pasternak i K.M. Polivanova: Pasternak B.L. Sobranie sochi-nenij: v 5 t. T. 5. M., 1992. S. 596.
-
6 Там же. С. 75.
Tam zhe. S. 75.
-
7 Там же.
Tam zhe.
-
8 Там же.
Tam zhe.
-
9 Пастернак Е.Б. Борис Пастернак. Материалы к биографии. М., 1989. С. 246– 254.
Pasternak E.B. Boris Pasternak. Materialy k biografii. M., 1989. S. 246–254.
-
10 Гаспаров М.Л., Поливанов К.М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария. М., 2005. С. 23–24.
Gasparov M.L., Polivanov K.M. «Bliznec v tuchah» Borisa Pasternaka: opyt kommentarija. M., 2005. S. 23–24.
-
11 Там же. С. 25–27.
Tam zhe. S. 25–27.
-
12 Там же. С. 28–30.
Tam zhe. S. 28–30.
-
20 См. комментарий В.М. Борисова и Е.Б. Пастернака: Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4. М., 1991. С. 898–899.
Sm. kommentarij V.M. Borisova i E.B. Pasternaka: Pasternak B.L. Sobranie sochi-nenij: v 5 t. T. 4. M., 1991. S. 898–899.
-
21 Пастернак Б.Л. К характеристике Блока // Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4. М., 1991. С. 703.
Pasternak B.L. K harakteristike Bloka // Pasternak B.L. Sobranie sochinenij: v 5 t. T. 4. M., 1991. S. 703.
-
22 Об этом см. подробнее в комментариях к стихотворению «Я – Гамлет. Холодеет кровь…»: Блок А.А. Полное собрание сочинений: в 20 т. Т. 3. М., 1997. С. 696.
Ob jetom sm. podrobnee v kommentarijah k stihotvoreniju «Ja – Gamlet. Holodeet krov'…»: Blok A.A. Polnoe sobranie sochinenij: v 20 t. T. 3. M., 1997. S. 696.
-
23 Об этом спектакле писала М.А. Бекетова: Там же. С. 50–51; 540–541. См. также: Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М., 1997. С. 23– 27; Рыбникова М.А. Блок – Гамлет. М., 1923. С. 25–32; Лесневский С. Путь, открытый взору. М., 1980. С. 75–78 .
Ob jetom spektakle pisala M.A. Beketova: Tam zhe. S. 50–51; 540–541. Sm. takzhe: Magomedova D.M. Avtobiograficheskij mif v tvorchestve A. Bloka. M., 1997. S. 23–27; Rybnikova M.A. Blok – Gamlet. M., 1923. S. 25–32; Lesnevskij S. Put', otkrytyj vzoru. M., 1980. S. 75–78 .
-
24 Блок А.А. Полное собрание сочинений: в 20 т. Т. 1. М., 1997. С. 18.
Blok A.A. Polnoe sobranie sochinenij: v 20 t. T. 1. M., 1997. S. 18.
-
25 Ср. хотя бы аллюзии на пастернаковского «Гамлета» в стихотворении В. Высоцкого «Мой Гамлет».
Sr. hotja by alljuzii na pasternakovskogo «Gamleta» v stihotvorenii V. Vysockogo «Moj Gamlet».
-
26 Образ современного города появляется и в эпилоге пастернаковского романа: друзья Юрия Живаго читают книгу его стихов, а за окнами шумит послевоенная Москва.
Obraz sovremennogo goroda pojavljaetsja i v jepiloge pasternakovskogo romana: druz'ja Jurija Zhivago chitajut knigu ego stihov, a za oknami shumit poslevoennaja Moskva.
-
27 См.: Якобсон А.А. «Вакханалия» в контексте позднего Пастернака» // Slavica Hierosolymitana. 1978. Vol. 3. P. 302–379.
Sm.: Jakobson A.A. «Vakhanalija» v kontekste pozdnego Pasternaka» // Slavica Hierosolymitana. 1978. Vol. 3. P. 302–379.
Список литературы «Гамлет» как стихотворение о городе
- Ржевский Л. Язык и стиль романа Б.Л. Пастернака «Доктор Живаго»//Борис Пастернак, 1890-1960 = Boris Pasternak. 1890-1960. Paris, 1979. С. 151-172.
- Фарыно Е. Поэтика Пастернака («Путевые записки» -«Охранная грамота»). Wien, 1989. С. 299, 345-346..
- Бак Д.П. «Доктор Живаго» Б. Пастернака: функционирование лирического цикла в романном целом//Роман и повесть в классической и современной литературе. Махачкала, 1992.
- Левин Ю. Гамлет и Офелия в русской поэзии//Шекспировские чтения. 1993. М., 1993. С. 125-130..
- Поливанов К.М. «Гамлет»//Поливанов К.М. Пастернак и современники. Биография. Диалоги. Параллели. Прочтения. М., 2006. С. 261-267.
- Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. М., 1990. С. 714-715.
- Поливанов К.М. Борис Пастернак с лета 1913 до лета 1914: год самоопределения//Гаспаров М.Л., Поливанов К.М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария. М., 2005. С. 23-24...
- Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 5. М., 1992. С. 596.
- Пастернак Е.Б. Борис Пастернак. Материалы к биографии. М., 1989. С. 246-254.
- Гаспаров М.Л., Поливанов К.М. «Близнец в тучах» Бориса Пастернака: опыт комментария. М., 2005. С. 23-24.
- Иванов В.В. «Вечное детство» Б. Пастернака//Литература и искусство в системе культуры. М., 1988. С. 472-473.
- Альфонсов В.Н. Поэзия Бориса Пастернака. СПб., 2001. С. 306-307.
- Баевский В.С. История русской поэзии: 1730-1980. Компендиум. М.,1996. С. 230-232.
- Бройтман С.Н. Блок в «Докторе Живаго» Б. Пастернака//Дискурс. Коммуникативные стратегии культуры и образования. 2000. № 8/9. С. 136.
- Пастернак Б.Л. К характеристике Блока//Пастернак Б.Л. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 4. М., 1991. С. 703.
- Магомедова Д.М. Автобиографический миф в творчестве А. Блока. М., 1997. С. 23-27.
- Рыбникова М.А. Блок -Гамлет. М., 1923. С. 25-32
- Лесневский С. Путь, открытый взору. М., 1980. С. 75-78.
- Якобсон А.А. «Вакханалия» в контексте позднего Пастернака»//Slavica Hierosolymitana. 1978. Vol. 3. P. 302-379.