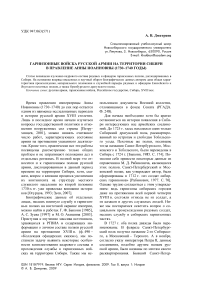Гарнизонные войска русской армии на территории Сибири в правление Анны Иоанновны (1730-1740 годы)
Автор: Дмитриев Андрей Владимирович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Статьи
Статья в выпуске: 1 т.8, 2009 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена изучению кадрового состава рядовых и офицеров гарнизонных полков, дислоцированных в Сибири. На основании впервые введенных в научный оборот биографических данных автором дана общая характеристика происхождения, материального положения и служебной карьеры рядовых и офицеров Енисейского и Якутского пехотных полков, а также Оренбургского драгунского полка.
Русская армия, гарнизонные войска, российское государство, сибирь, xviii век
Короткий адрес: https://sciup.org/14737004
IDR: 14737004 | УДК: 947.063(571)
Текст научной статьи Гарнизонные войска русской армии на территории Сибири в правление Анны Иоанновны (1730-1740 годы)
Время правления императрицы Анны Иоанновны (1730–1740) до сих пор остается одним из наименее исследованных периодов в истории русской армии XVIII столетия. Лишь в последнее время начали изучаться вопросы государственной политики в отношении вооруженных сил страны [Петру-хинцев, 2001], можно назвать считанное число работ, характеризующих состояние армии на протяжении указанного десятилетия. Кроме того, практически все эти работы посвящены рассмотрению только общих проблем и не затрагивают положения дел в отдельных регионах. В полной мере это относится и к гарнизонным полкам русской армии, дислоцированным в данный период времени на территории Сибири, хотя, скажем, вопрос о влиянии процесса увеличения их контингента на структуру местного служилого населения во второй половине 1730-х гг. уже привлекал внимание историков [Огурцов, 1993; Зуев, 2007].
Биографические данные об отдельных лицах, несших военную службу в гарнизонных полках на восточной окраине империи, можно найти в работах Г. Ф. Быкони [1985], А. С. Зуева [1997] и М. О. Акишина [2003]. Приступая к изучению массива источников, хранящихся в РГВИА и содержащих информацию о личном составе полков русской армии на протяжении XVIII в. (ф. 490 – «Коллекция офицерских сказок»), мы поставили задачу выявить некоторые особенности комплектования кадрового состава и прохождения службы в гарнизонных войсках на территории Сибири. Также мы ис- пользовали документы Военной коллегии, отложившиеся в фонде Сената (РГАДА. Ф. 248).
Для начала необходимо хотя бы кратко остановиться на истории появления в Сибири интересующих нас армейских соединений. До 1725 г. здесь находился один только Сибирский драгунский полк, расквартированный по острогам и слободам Тобольского уезда. Пехотные же полки, носившие тогда названия Санкт-Петербургского, Московского и Тобольского, были переведены в Сибирь с 1724 г. [Быконя, 1985. С. 174]. Позволим себе привести некоторые данные из справочника М. Д. Рабиновича, касающиеся этих полков. Санкт-Петербургский и Московский полки, как утверждает автор, были сформированы в 1712 г. «из солдат сибирских гарнизонов» [Рабинович, 1977. С. 70]. Однако трудно согласиться с этим утверждением: ведь гарнизоны сибирских городов даже на протяжении всей первой четверти XVIII в. состояли отнюдь не из солдат, а из казаков и других служилых людей. Ниже мы постараемся осветить вопрос о социальном происхождении рядовых солдат, несших службу в сибирских гарнизонных частях.
В 1727 г. оба полка дважды были переименованы. В феврале Санкт-Петербургский полк получил название 2-го Сибирского, а Московский – Терского. А в ноябре, согласно указу императора Петра II, данные соединения, подобно другим полкам русской армии, были названы по местам своего расквартирования. Бывший Санкт-Петер-
ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 1: История © А. В. Дмитриев, 2009
бургский полк стал Тобольским, бывший Московский – Енисейским [Висковатов, 1899. С. 78, 89]. Тобольский же полк, сформированный в 1720 г., был переименован в Якутский и послан в Забайкалье для несения службы на границе с Китаем [Рабинович, 1977. С. 72; Быконя, 1985. С. 174, 175]. Данная схема дислокации гарнизонных армейских частей будет сохраняться на территории Сибири вплоть до 1745 г., и лишь во второй половине 1730-х гг. их состав здесь пополнится новыми формированиями, о чем речь пойдет ниже.
Перейдем к организационной структуре интересующих нас соединений. Еще со времен Петра Великого для всех пехотных полков русской армии утвердилась единообразная внутренняя организация: «Полк делился на два батальона, каждый из которых насчитывал по четыре роты» [Татарников, 2008. С. 21]. Аналогично полевым частям, и гарнизонные полки состояли из 8 рот, сведенных в 2 батальона [Бескровный, 1958. С. 61]. Рядовые солдаты в документах второй четверти XVIII в., как правило, именовались «мушкетерами» (по присвоенному им оружию); состав одной роты насчитывал 120 чел. Кроме того, к каждой пехотной роте приписывали еще по 16 рядовых гренадер. Отдельные гренадерские полки, существовавшие в армии Петра Великого, после его смерти были расформированы: сначала, при Екатерине I, гренадер раскассировали по пехотным полкам, учредив в составе каждого особую гренадерскую роту; затем, уже в правление Анны Иоанновны, «пришли к заключению, что содержать гренадерские роты нецелесообразно… всех гренадер причислили к 8 ротам полка, при ротах состояли и гренадерские офицеры и унтер-офицеры» [Леонов, Ульянов, 1995. С. 69].
В сравнении с полевыми соединениями, гарнизонные части имели уменьшенные штаты. Согласно утвержденным Воинской комиссией фельдмаршала Б.-Х. Миниха в 1731 г. новым штатам, строевых рядовых в гарнизонном пехотном полку должно было числиться 1 102 чел. [Баиов, 1906. С. 16; Бескровный, 1958. С. 61]. Для полевых же пехотных частей требуемое число строевых рядовых составляло 1 152 чел. в мирное время, и 1 280 чел. – в военное [Леонов, Ульянов, 1995. С. 255]. Однако в документах Военной коллегии, как правило, их объ- единяли вместе с унтер-офицерами, а также нестроевыми рядовыми в одну общую цифру, равнявшуюся для гарнизонных полков 1 208 чел. 1 Сибирские гарнизонные части обычно были полностью укомплектованы: так, по состоянию на начало 1736 г. Енисейский и Якутский пехотные полки насчитывали унтер-офицеров и рядовых (строевых и нестроевых) как раз по 1 208 чел., и лишь в Тобольском пехотном полку недоставало 5 чел. 2 Гораздо труднее оказывалось укомплектовать эти полки штаб- и обер-офицерами. Ниже мы вернемся к этой проблеме.
Кто же конкретно попадали на службу в сибирские гарнизонные части рядовыми «мушкетерами»? Об этом, как ни странно, до сих пор не упоминал фактически ни один исследователь истории русской армии XVIII в. Лишь у А. К. Баиова находим указание о том, что «население Сибирской губернии комплектовало свои местные войска» [Баиов, 1906. С. 20]. Для ответа на этот вопрос воспользуемся сохранившимися архивными данными о составе Енисейского и Якутского полков 3 . По результатам смотра от 15 сентября 1733 г. Сибирский гарнизонный Енисейский пехотный полк насчитывал 1 128 строевых рядовых, в том числе 128 гренадер и еще 40 «закомплектных» солдат 4 . Большинство из них находились на службе не менее 10 лет, оказавшись в армейских рядах еще при жизни Петра Великого. Самые ранние даты поступления рядовых Енисейского полка на военную службу относятся еще к 1709 г., а основную часть среди них составляли те, кто попали сюда в результате рекрутских наборов, датируемых 1715, 1716, 1719, 1722 и 1723 гг. Впрочем, в каждой роте полка насчитывалось также порядка 8–10 чел., сравнительно недавно пополнивших собою личный состав: как правило, в промежутке между 1729 и 1732 г.
Данные по этим годам свидетельствуют о том, что сибирские гарнизонные полки пополнялись рекрутами на общих основаниях, наравне с прочими армейскими частями. Л. Г. Бескровный приводит следующие циф- ры: в 1729 г. проведенный по всей стране рекрутский набор дал более 23,5 тыс. чел.; в 1730 г. было взято 16 тыс. чел.; в 1732 г. в армию были отправлены более 18,5 тыс. чел. [Бескровный, 1958. С. 34]. Лишь после 1732 г. в Сенате принимается решение, одобренное также императрицей, об уменьшении рекрутских наборов с Сибирской губернии вследствие ее малонаселенности 5 .
Данные о социальном происхождении рядовых солдат в полковых документах, как правило, носят довольно ограниченный характер, в отличие от соответствующих характеристик офицеров. Тем не менее изученные нами именные списки Енисейского и Якутского полков показывают, что большинство из них были взяты на военную службу здесь же, в Сибири. Так, тот же Енисейский полк был укомплектован сыновьями русских крестьян и казаков, причем география их происхождения оказывалась весьма разнообразной: в рядах полка вместе несли службу выходцы из Тобольска, Томска, Тюмени, Верхотурья, Туринска, Кузнецка, Енисейска, Красноярска, Пелыма, Тары, Шадринска и Кунгура. Только в 8-й роте полка мы встречаем нескольких уроженцев европейской части страны, в основном из Москвы 6 .
Еще одна интересная деталь: хотя строевых рядовых насчитывалось более 1 100 чел., однако на момент проведения смотра «при полку» оказались только 500 чел., все же остальные находились в различного рода «командированиях». При анализе личного состава офицерского корпуса сибирских полков мы сможем более подробно остановиться на том, какими делами, помимо исполнения своих прямых обязанностей, занимались полковые офицеры.
Аналогичную картину мы наблюдаем и в Сибирском гарнизонном Якутском пехотном полку 7. На 1 января 1734 г. в полку числились 1 114 строевых рядовых, в конце того же года – 1 090, на рубеже 1737–1738 гг. – 1 076. На протяжении 1733–1734 гг. большинство среди них составляли опять-таки ветераны, попавшие в солдатскую службу в промежутке между 1715 и 1725 г.; лишь считанное число людей в каждой роте пополнили состав полка в ходе недавних рекрутских наборов начала 1730-х гг. А к 1738 г. почти во всех ротах мы находим еще по 10–12 чел., взятых на военную службу в середине десятилетия. Относительно рекрутских наборов этих лет Л. Г. Бескровный отмечал, что тогда «было разрешено принимать в рекруты лиц, имеющих рост ниже нормы» [Бескровный, 1958. С. 34]. И в 1736 г., после начала русско-турецкой войны, это разрешение сохранило свою силу для гарнизонных полков. Судя по данным именных списков, Якутский полк также был укомплектован местными уроженцами, сыновьями крестьян и казаков.
В 1734 г. среди мушкетеров 1-й роты полка числился С. Щугорин, 38 лет, происходивший из дворянских детей г. Илимска и взятый на службу в ноябре 1725 г. В 3-й роте мы находим И. Рудакова, 37 лет, из «бобыльских детей» Красноярска, ставшего мушкетером в феврале 1732 г. Среди гренадер 4-й роты видим С. Лызгирева, 33 лет, крестьянина, уроженца Чердынского уезда Соликамской провинции, несшего службу с февраля 1719 г. В рядах гренадер 7-й роты с августа 1732 г. служил М. Нефедов, 27 лет, выходец из дер. Хилоцкой Селенгинского уезда. По спискам 1738 г. обращает на себя внимание, например, мушкетер 4-й роты Н. Румянцев, 24 лет, бывший посадский человек Усть-Тунгусского острога Енисейского уезда, несший службу с сентября 1732 г. Гренадер 6-й роты А. Семкин, 37 лет, происходил из драгунских детей Масленской слободы Тобольского уезда и был зачислен в полк еще в июле 1721 г. Его сослуживец из 8-й роты С. Мурзинцов, 47 лет, служил еще дольше, с февраля 1715 г., а происходил из солдатских детей Тобольска.
Как и в Енисейском полку, рядовые Якутского полка выполняли множество разнообразных поручений, зачастую уводивших их далеко от места несения службы [Зуев, 1994. С. 15, 17]. В начале 1734 г. при полку находились 585 чел., в конце года – 711 чел., в 1737–1738 гг. – 529 чел. Поскольку часть полковых офицеров постоянно отправлялись в различные пункты Восточной Сибири, их всегда сопровождало и какое-то число рядовых. Так, в 1734 г. гренадер 1-й роты Г. Мангазеев последовал за капитаном Т. Маремьяниновым в Кяхту, гренадер 2-й роты Ф. Хапилов сопровождал премьер-майора В. Мерлина в его поездке на Камчатку. Определенную помощь оказали рядовые военнослужащие Якутского полка Камчатской экспедиции В. Беринга и А. Чирикова [Зуев, 2003. С. 89]: в частности, отправились в ее состав плотниками мушкетеры Г. Романов и И. Рудаков. Гренадер 5-й роты Г. Дружков в 1733 г. уехал в Иркутск для сопровождения арестантов, мушкетер Я. Черепанов в 1734 г. конвоировал колодников из Якутска. Аналогичная картина наблюдалась и во второй половине 1730-х гг.
Таким образом, рядовой состав полков Сибирского гарнизона почти ничем не выделялся на общем фоне среди солдат русской армии тех лет. А вот несшие здесь военную службу офицеры отличались от своих собратьев в полевых полках весьма значительно. Проанализируем известные нам данные об офицерах Енисейского и Якутского полков и сравним их с положением армейских офицеров в европейской части страны.
По новым штатам, утвержденным в 1731 г., штаб- и обер-офицеров в гарнизонном пехотном полку должно было быть в мирное время 27 чел., в военное – 29 чел. [Баиов, 1906. С. 16; Бескровный, 1958. С. 61]. Для сравнения: в полевых полках эти цифры составляли 38 и 39 чел. соответственно [Баиов, 1906. С. 2; Бескровный, 1958. С. 57]. Однако в полках все время сохранялись свободные вакансии. Так, по донесениям в Сенат из Военной коллегии на 1 сентября 1731 г. в составе Енисейского и Якутского полков числились по 28 штаб- и обер-офицеров, а для полного укомплектования требовались еще по 3 чел. Аналогичная картина наблюдалась и по состоянию на 1 мая 1733 г.: в Якутском полку по спискам наличествовало 38 чел., недоставало еще 2 чел. В январе-феврале 1736 г. в Якутском полку числились 33 чел., к ним необходимо было добавить еще 7 чел., в Енисейском – 38 чел., требовались еще 2 чел. 8
Необходимое пояснение: получающаяся итоговая цифра в 40 чел. больше предусмотренной штатами (27 чел.) за счет прибавления сюда так называемых должностей «унтер-штаба»: полковые комиссары, лекари, писари, подьячие (по 1 чел. в каждом полку), гобоисты (7 чел.), профосы (2 чел.).
Всего мы располагаем более-менее подробными биографическими данными о жизни и службе более 50 чел., имевших штаб- и обер-офицерские чины в составе сибирских гарнизонных частей. Не имея возможности останавливаться здесь подробно на биографии каждого офицера, отметим некоторые общие тенденции, свойственные принципам комплектования офицерского корпуса обоих полков, а также отдельные интересные конкретные данные по ряду фигур 9 .
Прежде всего, эти люди достаточно давно несли военную службу: возраст большинства из них уже превышал 40 лет. Исключение составляли лишь двое: капитан Енисейского полка С. Угримов и поручик Якутского полка А. Греченинов (1702 г. р.). Все они были взяты в армию еще в петровскую эпоху, в промежутке между 1700 и 1720 г. Данные об их происхождении рисуют следующую картину: 24 чел. были уроженцами Сибири, 15 – выходцами из европейской части России. К последним принадлежали все штаб-офицеры: бригадиры А.Сухарев (до 1736 г. командир Енисейского полка) и И. Бухгольц (командир Якутского полка) [Акишин, 2003. С. 105], подполковники Енисейского полка М. Лебедев, Якутского – В. Мерлин, премьер-майор того же полка А. Зыбин. Вполне типичны биографии поручика Енисейского полка М. Карпова, рейтарского сына из Тулы, его сослуживца прапорщика А. Заворо-ва, происходившего «из дворянских детей» Вышнего Волочка; несколько выходцев из Москвы оказались в Якутском полку: поручик М. Лебедев – из дворовых боярских людей, прапорщик С. Ковальцов – из боярских людей «дому стольника Алексея Нарышкина».
Значительно более разнообразны биографии сибиряков, дослужившихся в составе здешних гарнизонных частей до обер-офицерских чинов. Например, в Енисейском полку мы видим поручика Л. Палова, ямщицкого сына из Тюмени, а рядом с ним – прапорщиков И. Мухлынина, уроженца Верхотурья «из рейтарских детей», и В. Сергеева, сына тобольского казака. Поручик И. Кузнецов происходил из крестьян г. Туринска, капитан П. Топорков писал о себе, что он «купецкого отца сын», а капитан П. Шарыгин называл себя выходцем из детей боярских. Прапорщик М. Толкачев был сыном драгуна из Окуневского дистрикта Тобольского уезда.
Аналогичная картина наблюдалась и в Якутском полку. Так, капитан Л. Клепиков происходил из дворянских детей г. Тобольска, поручик И. Остяков был сыном драгуна из Ялуторовской слободы Тобольского уезда. Поручики А. Греченинов и Ф. Попов были взяты на службу из неверстаных детей боярских Томска и Тобольска соответственно, В. Басов был сыном тобольского крестьянина. Прапорщик М. Немчинов ранее был сыном боярским в Тобольске, его сослуживец М. Иконников – там же конным казаком. Словом, здесь оказывались вместе (и даже в одних и тех же чинах) выходцы из тяглых сословий и представители сибирского служилого населения.
Другой интересной особенностью является присутствие среди сибирских офицеров немалого числа иноземцев. Конечно, это было характерным явлением практически для всех полков русской армии как в эпоху Петра Великого, так и в правление Анны Иоанновны, однако применительно к соединениям, расквартированным в Сибири, на него обратил внимание только А. С. Зуев [1997]. А между тем в Якутском полку на протяжении 1730-х гг. мы находим 9 чел. «швецкой» и «лифлянской нацыи», в Енисейском полку – 5 чел. Здесь и попавшие в русский плен под Полтавой в июне 1709 г. шведы: рейтары Г. Корнеус (он, правда, был по происхождению финном) и И. Гольц, драгун П. Инингрин, крестьянский сын из г. Эребру Н. Оконфелт, Я. Меер; и разделившие их судьбу в середине 1710-х гг. лифляндцы: прапорщики М. Цей и М. Цанг (оба – дворянского происхождения), драгун Д. Фоголзанг; саксонец И. Тренс.
Лишь братья Магнус и Кузьма Шкадеры были «добровольцами», сыновьями курляндца Михаэля Шкадера, отправившимися на сибирскую службу «своей волей». Их отец, попавший в русский плен еще в 1703 г., к 1731 г. дослужился в Енисейском полку до чина премьер-майора. Вместе с ним там же оказался и капитан Ф. Вейдинг, «из шляхетства родом из Прус», по указу императрицы в 1732 г. пониженный чином из полковников и переведенный сюда для прохождения службы из Нарвского пехотного полка.
Среди известных нам обер-офицеров Енисейского и Якутского полков ни один не располагал собственными землями и крепостными, все они должны были нести службу на получаемое от казны жалование. Помещиками числились только штаб-офицеры: так, бригадир А. Сухарев владел землями в Переяславле-Рязанском, в Пронском, Ряж-ском и Тамбовском уездах, имел более 70 душ крепостных мужского пола (далее – м. п.) Земельные владения бригадира И. Бухгольца располагались сразу в пяти уездах европейской части страны (Вязьма, Смоленск, Можайск, Кашин, Дмитров), а проживало в них 500 душ крепостных крестьян м. п. Подполковник В. Мерлин также являлся шляхтичем-помещиком, но его благосостояние было гораздо скромнее. Владея имениями в двух уездах (Вяземском и Шацком), он располагал лишь полусотней душ крепостных м. п.
А вот в полевых армейских частях мы наблюдаем более благополучную картину. Так, в Нотебургском пехотном полку, к 1737 г. выведенном вместе с другими частями Низового корпуса из персидских провинций Закавказья на Украину, целый ряд обер-офицеров в чинах поручиков, подпоручиков и даже прапорщиков располагали собственными землями и крепостными 10 . Отличался в этом отношении только сформированный во второй половине 1730-х гг. Оренбургский гарнизонный драгунский полк, о котором еще пойдет речь ниже.
Помимо своих основных обязанностей, офицеры сибирских полков выполняли также множество иных функций. Вполне справедливо замечание современных исследователей о том, что любой полк «активно участвовал в жизни того уезда, к которому был причислен и в котором располагался» [Леонов, Ульянов, 1995. С. 68]. Круг занятий армейских офицеров оказывался чрезвычайно разнообразным: «сбор денег и продовольствия на содержание полка, рекрутские наборы, поимки беглых крестьян, искоренение разбойничьих шаек и участие в работе судебных органов – все занятия военнослужащих трудно перечислить» [Там же. С. 68, 69]. Аналогичная картина наблюдалась и в гарнизонных полках, дислоциро- ванных в Сибири, хотя и с поправками на специфику жизни и службы в этом отдаленном крае. Так, на момент проведения инспекторских проверок при Якутском полку находились: в 1733 г. – 6 чел., в 1734 г. – 7 чел., в 1737 г. – 8 чел. (не считая тех, кто командовал ротами, переведенными в Нерчинск и в Кузнецк). Более половины офицеров постоянно находились в «командировании», нередко за многие сотни верст от Селенгинска, где располагался штаб полка. Приведем здесь несколько примеров.
В 1732 г. поручик М. Цанг по распоряжению из Иркутска был отправлен на Камчатку «за безымянными арестанты». Поручик И. Остяков в 1733 г. оказался в Иркутске «на вечной квартире у збору подушного». Капитан Т. Маремьянинов в 1733 г. стал командиром гарнизона Кяхтинского форпоста на границе с Китаем, а в дальнейшем оказался в Якутске, где заведовал поставками провианта в Охотск для Камчатской экспедиции В. Беринга и А. Чирикова. Аналогичная картина наблюдалась и в Енисейском полку: при проведении смотра в сентябре 1733 г. наличествовали только 7 чел. Командовавший полком бригадир А. Сухарев отправился в Иркутск, где ему предстояло в течение нескольких лет расследовать должностные преступления тамошнего вицегубернатора А. И. Жолобова [Акишин, 2003. С. 238–240]. Многие обер-офицеры постоянно находились в пограничных гарнизонах, расквартированных в Верх-Иртышских крепостях для прикрытия от набегов из степей. Поручик М. Карпов пребывал в Якутске «на полковом штабном дворе у подушного збо-ру», его сослуживец Ф. Мамеев исполнял ту же роль в Томске. Прапорщик И. Рахвалов был командирован на Екатеринбургские горные заводы. Наконец, капитан И. Миха-левский нес караул при опальных кн. Долгоруковых в далеком северном Березове.
Данная ситуация, разумеется, не могла не сказываться на боеспособности сибирских гарнизонных частей. Местная администрация неоднократно ставила перед центральным правительством вопрос о том, насколько эффективно могут эти соединения выполнять свою главную задачу – охранять границы русских владений в Сибири от возможных вторжений извне. Из переписки Сибирской губернской канцелярии с Сенатом и Военной коллегией явствует, что, например, достаточно негативную реакцию на восточной окраине империи вызвало решение Воинской комиссии фельдмаршала Б.-Х. Миниха, одобренное императрицей, о рассредоточении гарнизонных войск на сибирском пограничье по множеству крепостей и форпостов, дабы создать сплошную укрепленную линию. Местные власти считали необходимым требовать в свое распоряжение дополнительные воинские контингенты.
В ноябре 1732 г. в Военную коллегию поступили соответствующие доношения от иркутского вице-губернатора А. И. Жолобова, а также сибирского губернатора А. Л. Плещеева и вице-губернатора П. И. Бутурлина. Жолобов, указывая, что если «по присланным в Сибирскую губернию Воинской комиссии пунктом пехотных две да драгунскую роту перевесть в Томск, в Кузнецк и в Чеуской острог, за тем останется на китайской границе из пехотнаго полку (Якутского. – А. Д. ) в Селенгинску баталион, в Нерчинску рота, в Иркуцку рота ж», предостерегал, что «помянутаго пехотнаго полку от границы разкомандировать и роты драгун оттуда свесть ни по которому образу невозможно». В связи с этим Жолобов настаивал: «Для такой предосторожности на границе быть надлежит целому пехотному полку, да в прибавок определить один драгунской и один пехотной полки» 11 .
Иную позицию занимал губернатор Плещеев. По его мнению, надлежало «в но-вопостроенныя Иртышския пять крепостей, также в Томск, и в Кузнецк, и в Чеуск, и к Барабинским степям, и к границам Калмыцкой и Казачей Орды перед прежним прибавить регулярных войск, в чем самая состоит нужда». На китайской же границе «ныне такой нужды нет, понеже с китайцами состоит мир, и утвержена граница, и прежде сего и з давных лет китайская граница со-держана была без регулярных войск тамошними казаками и тунгусами и протчими иноземцами». Укрепить южные границы русских владений в Западной Сибири он намеревался как раз за счет перевода сюда нескольких рот из состава Якутского полка. В случае, если в Петербурге возобладает мнение вице-губернатора Жолобова, Плещеев просил «прислать или набрать еще из рекрут Сибирской губернии один драгун- ской полк» 12. В итоге в Петербурге пришли к мысли о том, что «надлежало б в Сибирскую губернию прибавить… один или два регулярныя полка».
Однако ни в 1733, ни в 1734 гг. для формирования в Сибири новых гарнизонных частей ничего сделано так и не было. Только в 1735 г. центральная власть снова вынуждена была вернуться к этому вопросу после очередного представления Сибирской губернской канцелярии о настоятельной необходимости присылки сюда еще нескольких драгунских полков 13 . Начавшееся как раз в 1735 г. восстание зауральских башкир привело к срочному формированию Оренбургского гарнизонного драгунского полка, предназначенного для подавления этого выступления, а с 1736 г. приступили также к формированию Новоучрежденного драгунского полка. Не имея возможности подробно останавливаться здесь на ходе этого процесса, тем более, что данные об организации Новоучрежденного полка уже введены в научный оборот [Огурцов, 1993; Зуев, 2007], воспользуемся данными инспекторского смотра Оренбургского полка за 1740 г., чтобы выявить некоторые особенности, связанные с укомплектованием его личным составом 14 .
По состоянию на 22 января 1741 г. полк насчитывал 913 рядовых драгун, в том числе 99 гренадер. Драгунские полки, в отличие от пехотных, имели в своем составе 10 рот, из которых формировались несколько эскадронов [Татарников, 2008. С. 23]. Строевых рядовых в каждом драгунском полку по штатам мирного времени полагалось 800 чел., военного времени – 920 чел. [Баиов, 1906. С. 4, 16; Бескровный, 1958. С. 58, 61]. Заметим, кстати, что цифры эти были одинаковыми как для полевых, так и для гарнизонных частей. Укомплектован Оренбургский полк был в основном сыновьями солдат, казаков и крестьян, хотя в составе нескольких рот мы находим и людей, еще до зачисления в полк несших казачью службу. По данным Сибирской губернской канцелярии, на протяжении 1737–1738 гг. в Оренбургский полк было зачислено четыре сотни сибирских казаков [Зуев, 2007. С. 23, 25], однако к 1741 г. большинство из них, судя по всему, были заменены новобранцами. Во всяком случае, тех, кто несли военную службу еще с 1720-х гг., по спискам обнаруживается не более полусотни, все же остальные драгуны поступили в полк по результатам рекрутских наборов 1735, 1737 и 1739 гг.
География происхождения рядовых Оренбургского полка включала не только города Сибири (Тобольск, Тюмень, Тара, Томск, Енисейск, Красноярск), но и такие места, как Уфа, Бирск, Мензелинск. Наконец, интересной особенностью стало присутствие среди оренбургских драгун немалого числа лиц «полской нацыи». Можно предположить, что это были сторонники претендента на польский престол С. Лещинского, в ходе войны за польское наследство 1733–1735 гг. попавшие в плен после боев с русскими войсками и, подобно пленным шведам времен Северной войны, оказавшиеся в ссылке в Зауралье. При полку на момент проведения смотра находились 510 рядовых.
А вот среди офицеров полка местные уроженцы встречаются лишь в унтер-офицерских чинах. Что же до штаб- и обер-офицеров, то фактически все они были уроженцами европейской части страны, записанными выходцами «из шляхетства». Обязанности командира исполнял на тот момент подполковник П. Бахметьев, с ноября 1739 г. также отправлявший воеводскую должность при Исетской провинциальной канцелярии. Напарником его числился премьер-майор Ф. Дурасов, однако он с октября 1740 г. был отпущен «в свои деревни» в Пензенском и Саранском уездах. Среди обер-офицеров вполне характерными выглядят такие фигуры, как прапорщики В. Морщиков «из шляхетства Казанского уезду», И. Кулиев – уроженец Рыльского уезда, Д. Долгоносов – выходец из Волока Ламского, поручик А. Фоменков «из шляхетства» Москвы, капитан И. Крылов из дворянских детей Симбирска, и др. Исключением оказывается на этом фоне поручик С. Неклюдов, до начала своей армейской карьеры бывший канцеляристом в Оренбургской комиссии.
Судя по всему, комплектование Оренбургского полка офицерами производилось по той же схеме, что и для формировавшего тогда же Новоучрежденного драгунского полка: «Афицеров определить Военной ко-легии ис таких, которые ис полевой армии к отставке присыланы бывают и гварнизон-ную службу снести могут» 15. Впрочем, мы встречаем здесь и людей, недавно попавших на военную службу: так, возраст поручика М. Бахметьева составлял 23 года, прапорщика Л. Дмитриева и поручика А. Шубин-ского – 29 лет. Однако возраст большинства офицеров все же превышал 40 лет, т. е. их военная карьера началась в промежутке между 1710 и 1725 г.
Практически все полковые офицеры располагали собственными имениями. Одни, как капитаны И. Рагозин и А. Любавский, поручик П. Арбузов, имели 80–90 или даже более сотни душ крепостных м. п.; другие числили за собой лишь несколько десятков, а то и менее десятка душ, причем нередки были случаи, когда эти души записывались даже не за самими офицерами, а за их родителями или женами. Тем не менее, благодаря этому они могли не чувствовать себя ущемленными в сравнении со своими собратьями из полевых полков. Подобно своим сослуживцам из гарнизонных пехотных полков, оренбургские драгунские офицеры также выполняли множество поручений, не связанных напрямую с военными делами. Так, поручик И. Тарбеев после подавления очередного антирусского восстания башкир по распоряжению Исетской провинциальной канцелярии отправился к ним «для приводу к присяге». Некоторые офицеры часто бывали в Самаре, где располагался штаб генерал-лейтенанта кн. В. А. Урусова, стоявшего тогда во главе Оренбургской комиссии. Другие постоянно находились при гарнизонах крепостей, выстроенных на границе казахских степей – Карагайской, Чебаркуль-ской, Миасской и др. Словом, Оренбургский драгунский полк, имея статус гарнизонного, стоял, тем не менее, гораздо ближе к полевым армейским частям, нежели рассмотренные нами выше пехотные полки.
Подведем итоги. Особое положение, занимаемое сибирскими полками среди других гарнизонных частей русской армии рассматриваемого периода, несомненно, сказывалось на принципах комплектования и кадровом составе несших в их рядах службу офицеров и рядовых. На это указывают приведенные выше данные об их происхож- дении и имущественном положении. Вместе с тем отмеченные нами проблемы, связанные с нехваткой офицерских кадров и загруженностью тех, кто находились на службе, обязанностями, зачастую далекими от военного дела, были общими для всех соединений русской армии второй четверти XVIII в.
С точки зрения интересов собственно сибирской администрации положение дел в подведомственной им сфере было далеким от идеала. Не случайно уже в 1745 г. императрицей Елизаветой Петровной будет санкционирован перевод на восточную окраину Российской империи сразу 5 армейских полевых полков для подкрепления охраны границ. Тем не менее вопросы военной безопасности русских владений в Сибири никогда не оставались без внимания центральной власти, пусть та и не всегда располагала надлежащими средствами для их решения.
RUSSIAN ARMY’S GARRISON FORCES IN SIBERIA IN THE REIGN OF ANNA IOANNOVNA (1730–1740)