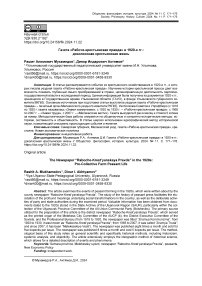Газета «Рабоче-крестьянская правда» в 1920-е гг.: доколхозная крестьянская жизнь
Автор: Мухамедов Р.А., Ахтямов Д.И.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 11, 2024 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются события из крестьянского хозяйствования в 1920-е гг., о которых писала уездная газета «Рабоче-крестьянская правда». Изучение истории крестьянской прессы дает возможность показать глубинный смысл преобразований в стране, целенаправленную деятельность партийно-государственной власти в исследуемый период. Ценная информация была получена из документов 1920-х гг., хранящихся в Государственном архиве Ульяновской области (ГАУО), в фонде Ульяновского губернского комитета ВКП(б). Основным источником при подготовке статьи выступила уездная газета «Рабоче-крестьянская правда» - печатный орган Мелекесского уездного комитета РКП(б), Уисполкома Советов и Упрофбюро (с 1918 по 1920 г. газета называлась «Знамя коммунизма», с 1920 по 1930 г. - «Рабоче-крестьянская правда», с 1965 по 2007 г. - «Знамя труда», с 2007 г. - «Мелекесские вести»). Газета выходила 8 раз в месяц и стоила 5 копеек за номер. Методологическая база работы опирается на общенаучные и конкретно-исторические методы: историзм, системность и объективность. В статье широко использован идеографический метод исторической науки, позволяющий описывать происходящие события и явления.
Самарская губерния, мелекесский уезд, газета «рабоче-крестьянская правда», крестьяне, новая экономическая политика
Короткий адрес: https://sciup.org/149146679
IDR: 149146679 | УДК: 930.2“192” | DOI: 10.24158/fik.2024.11.22
Текст научной статьи Газета «Рабоче-крестьянская правда» в 1920-е гг.: доколхозная крестьянская жизнь
,
,
1,2Ilya Ulyanov State Pedagogical University, Ulyanovsk, Russia , ,
Актуальность темы обусловлена тем, что в исследуемые 1920-е гг. роль крестьянства, представляющего собой основную массу населения Советской России, была велика как в политической, так и в экономической жизни страны. Поэтому научный интерес остается востребованным к проблеме крестьянских настроений, крестьянской психологии, состояния общественного сознания этой группы населения в годы Гражданской войны, Военного коммунизма и Новой экономической политики. Практическая значимость исследования заключается в том, что его материалы могут широко использоваться в обобщающих трудах по аграрной истории региона и позволяют проследить трансформацию взаимоотношений Советской власти и крестьян. Авторами впервые вводится в научный оборот новый исторический источник, а также материалы уездной газеты «Рабоче-крестьянская правда», которая широко освещала проблемы крестьянства в исследуемый период. В этом и заключается научная новизна настоящего исследования.
Одной из наиболее интересных работ по этой теме является монография С. Ярова, в которой рассматриваются некоторые проблемы политического сознания крестьянства и вооруженного протеста на примере губерний северо-запада России (Яров, 2014). Другие исследователи (Мухамедов, Субботин, 2021; Мухамедов, Бойко, 2021; Комлев, Мухамедов, 2024; Мухамедов, 2018; 2019) отмечают неустойчивость политических взглядов крестьян и на первое место в деле склонения симпатий крестьянства к той или иной власти ставят отношение к продовольственному вопросу.
В 1920-е гг. Мелекесский уезд был самым большим в Самарской губернии, его площадь составляла 14 104 кв. км. Для сравнения: площадь современной Ульяновской области равна 37 200 кв. км. На тот момент Мелекесский уезд включал в себя четыре современных района Ульяновской области и пять (два частично) районов Самарской области.
К юбилею революции в редакции газеты «Рабоче-крестьянская правда» попытались осмыслить сделанное за десять послереволюционных лет в аграрном секторе. По мнению авторов обзора, за это время сельское хозяйство уезда прошло три этапа: 1) катастрофическое падение земледелия и животноводства в годы войны, голод 1920 и 1921 гг.; 2) «бурное восстановление в основных отраслях земледелия и животноводства в 1922–1925 гг.»; 3) «переустройство крестьянского хозяйства на началах улучшения системы полеводства, кооперирования и классового подхода при проведении государственных мероприятий… в 1925–1927 гг.»1.
Динамика численности населения также свидетельствует о позитивных изменениях. Хотя уровень 1920 г. так и не был достигнут, число жителей уездного центра в 1926 г. выросло на 18,3 % по сравнению с переписью 1923 г. Наряду с механическим движением (демобилизация, «голодо-возвратники», переток сельского населения) свой вклад внес естественный прирост. То есть периодизация, предложенная еще в 1927 г., достаточно точно отразила динамику развития экономики, а также фазы неомальтузианского цикла. Требует критического уточнения только словосочетание «бурное восстановление», использованное автором обзора.
Дело в том, что надежды на хороший или средний урожай в 1923 г. не оправдались. Средним урожаем тогда считался сбор с одной десятины не меньше 45 пудов ржи и 35 пудов пшеницы. Урожай в ту осень составил около 30 пудов с одной десятины или 7 024 650 пудов с 234 155 десятин посевных. Причины – засуха в период налива колоса, грибные дожди («помоха») и холодные росы («мгла»). Собранного тогда зерна едва хватило, чтобы свести концы с концами к урожаю следующего года. Минимальные потребности сельского (342 951 чел.) и городского (15 000 чел.) населения уезда составляли примерно 9 166 389 пудов в год2.
Резервы экстенсивного развития были исчерпаны сравнительно быстро. Весной 1927 г. в уезде было засеяно 96 % довоенной посевной площади. Но общая продуктивность составила только 84 % от довоенной3. Даже при этой благоприятной конъюнктуре все-таки основной проблемой земледелия в уезде являлось растущее падение урожайности. В апреле того же года корреспондент из Чердаклинской волости сообщал следующее: «В 80-х годах прошлого столетия, т. е. 40 лет тому назад, получались сносные урожаи пшеницы, гороха, гречи, и об этих урожаях сохранились радостные воспоминания… Очередь теперь и за подсолнухом: урожай его все падает и падает… Просо тоже редко родится, и крестьянину, невзирая на большой посев – 13 %, или 8 220 гектаров, чуть ли не два раза в десятилетие приходится есть кашу из своего пшена»4.
Ему вторил крестьянин из деревни Дворяновка Ташёлкской волости: «В среднем с казённой десятины в 1927 г. у нас собрали 65 пудов ржи и 18 пудов пшеницы». Секрет такого разительного контраста прост: до 1918 г. здесь засевали поле травами (т. е. давали земле отдохнуть). Теперь же «крестьяне ведут трёхполку и совсем не дают земле отдыхать и дождались того, что в полях вместо пшеницы родится овсюг»1.
На трехполье, как главного виновника деградации, обрушились еще с начала двадцатых годов2. Критика была направлена на несвоевременное проведение агротехнических мероприятий, например, нарушение севооборота, запоздалая вспашка и сев озимых, яровых зерновых и зернобобовых культур, которые напрямую снижают урожайность сельскохозяйственных культур, кроме того, также ежегодные переделы земли и отсутствие выгонов, что вело к вырождению скота. Яркий пример – ситуация в Хуторской Шентале (Грачовские хутора), где «даже из трёхполья устроили «пестрополье»: 4–5 лет на одном месте пшеницу сеют. Весь яровой клин 1926 г., который должен пойти под озимые 1927–28, запахан под зябь. Урок 1926 г., когда собирали по 2– 3 пуда с десятины – не впрок»3.
Какие предлагались решения? Это: переход к «многополью»/«семиполью» (как вариант через переходную форму – четырехполье); выращивание более ценных, чем рожь, масленичных и технических культур; кооперативная переработка сырья; диверсификация хозяйства путем упора на производство молочных и мясных продуктов, а также введение в севооборот травосеяния.
Стоит отметить, что эти мероприятия во многом перекликаются с основными элементами столыпинской реформы, особенно на ее первом этапе, и духом «Положения о землеустройстве»4. Так, важным направлением в организационно-массовой и идеологической работе в советские двадцатые становится культуртрегерство.
Но самыми важными с точки зрения сходства представляются активные работы по землеустройству. Как известно, наиболее успешно столыпинская реформа в губернии прошла в степном Заволжье. Однако в Ставропольском уезде за 1907–1915 гг. из общины вышло только 7,5 % крестьянских хозяйств (против 48,2 % по губернии). Это было следствием сильного сопротивления национальных меньшинств, доля которых в уезде была достаточно высока, а также малоземелья. В Мелекесском уезде была самая высокая плотность населения в Самарской губернии: на одного едока приходилось по 2,1 десятины, тогда как в других уездах – от 3 до 6 десятин5. В результате малоземелья на выход из общины были настроены бедняки и зажиточные крестьяне. Примечательно, что здесь середняки и в начале века активно участвовали в жизни общины, а при добровольной коллективизации составили костяк колхозов.
Первые сельхозобъединения в Мелекесском уезде появляются в 1920–1921 гг. С 1921 по 1925 г. росли исключительно сельхозартели и поселковые товарищества. Главным желанием крестьян было получить лучшие земли и поближе к своим дворам. Значительная часть бедняков избирает хуторскую стратегию – выселение из села на новые земли, выделенные компактным образом. Показателен пример бедняков, выселившихся из волостного села Шламка в 1922 г. и образовавших поселок Крыловка. Последующий переход на шестиполье, финансовая господдержка, механизация определили успех переселенцев и их лояльность режиму. В данной ситуации крестьяне на новом хуторе получили от Советской власти семенной материал для весеннего сева, сельскохозяйственный инвентарь, две лобогрейки, одну рядовую сеялку и один трактор, кроме того была выделена ссуда на приобретение животных в т. ч. лошадей как основной тягловой силы6.
В Седелькинской волости землеустройство началось с 1923 г., тогда обустроили 11 % земли. В результате к 1927 г. было образовано 12 поселков до 30 дворов в каждом. В том же году нарезали земли еще для пяти поселков. В 1927 г. закончили обустройство крестьяне из села Тенеево (Шламская волость), состоящего из 250 дворов, которые выделились и образовали три поселка. Подобная логика характерна для возникновения Новосёлок и последующего развития его отделений, а позднее – уже в 1930-е гг. – для отделений Мулловского совхоза (поселения Лесной, Кипрей, Зелёная, Приферма)7.
С ростом числа тракторов, поступающих в уезд, возникла дополнительная проблема: доставка горючего. Топливных баз было мало, и это еще больше увеличивало расходы артельных тракторов и без того с длинным транспортным плечом. Безакцизный керосин в Чистовской волости получали со сливного пункта совхоза «Красный строитель» по цене 1 руб. 44 коп. за пуд. Но чтобы конкурировать трактору с лошадью, цена керосина не должна была превышать 65–70 коп.1
Землеустроитель Макаров, подводя итоги полевого сезона 1926 г., выделил следующие недостатки крупных общин по сравнению с небольшими и компактными объединениями: дальноземелье, что ведет к несвоевременности жатвы или гибели урожая на полях (из-за непостоянства погоды редко удается подкараулить небольшие «окна»); трудности по вывозу урожая, перенапряжение тяглового скота и почти полное отсутствие «зяблевой вспашки». Небольшие объединения лучше справились с этими проблемами, с толком используя каждый погожий день. Отсюда, как заключил Макаров, «одна из главных задач землеустройства – разбить большие общины на более мелкие части»2.
Из-за самофинансирования землеустройства бедняки этот инструмент до 1924 г. использовали редко. С началом целевого финансирования землеустройства центром ситуация изменилась. В Мелекесском уезде массовый характер эта акция приняла с 1926 г. в четырех волостях (Ново-Малыклинская, Старо-Шенталинская, Шламская и Чистовская). Из 8 млн руб., выделенных Самарской губернии, в уезд направили 933 365 руб. (хотя освоено было меньше половины). После трехступенчатой процедуры было отобрано 2 428 хозяйств3. Осенью 1927 г. эти процессы охватили другие волости. Например, 23 ноября на пленуме Чердаклинского исполкома обсудили два землеустроительных проекта площадью 65 тыс. га, а также мероприятия по сплошному землеустройству лугов волости. Однако уже в 1927 г. становится заметной новая тенденция при землеустройстве – поддержка кооперированного населения. Так, из хозяйств, отобранных в первых четырех волостях, около 75 % были из кооперативов. Это следствие прямого указания XII Всероссийского и III Всесоюзного съездов Советов о содействии тем формам землепользования, что способствуют развитию кооперации в сельском хозяйстве4.
Тема кооперирования долгое время была важной, но не определяющей. Сельхозобъедине-ния в уезде появились в 1920‒1921 гг. Тогда их насчитывалось полтора десятка. В 1923 г. число кооперативов удваивается, в 1924 г. падает, и в 1925 г. снова растет. Только с постановлением правительства от 18.03.1927 г. о коллективных хозяйствах началось стимулирование их развития экономическими методами, такими как: предоставление долгосрочного кредита, снабжение сельхозмашинами, ускорение землеустройства, налоговые послабления (25 % скидки с сельхозналога) и т. д. В результате только за первую половину 1927 г. возникло до 30 разных объединений. К середине года в уезде де-юре было около 230 объединений (сельхозартелей – 100, поселковых товариществ – 69, машинных товариществ – 31, специализированных товариществ – 26)5.
Среди всех крестьянских объединений особое значение имели ссудо-сберегательные и кредитные крестьянские кооперативы и организации. Именно в большинстве случаев эти кооперативы, не имея государственной поддержки со стороны новой Советской власти, помогали содержанию социально значимых объектов, которые они создавали еще в дореволюционный период в российской деревне. Задачи новой власти Советов состояли в поддержке беднейшей части крестьян в экономическом аспекте, потому как именно их считали основной опорой власти в деревне.
Из доклада Губернского статистического бюро от 12.03.1926 г.: к 1926 г. дальноземелье широко распространилось в Ульяновской губернии, что в сочетании с недостаточным использованием сельскохозяйственной техники ограничило возможности хозяйств6. Малоземелье также привело к дальнейшему обнищанию большей части крестьянских хозяйств. Крестьяне, не имея тягловой силы и сельскохозяйственного инвентаря, были вынуждены сдавать свои земельные участки в аренду тем, кто смог бы ее обрабатывать. Это, в свою очередь, способствовало социальному расслоению крестьянских хозяйств, появлению в деревне «зажиточных» и «беднейших»7.
При поддержке Советов и представителей партии ВКП(б) началась работа по формированию Комитетов крестьянской бедноты (ККБ). С их помощью можно было расформировать те Сельские Советы, которые считались «прокулацкими», т. е. руководитель и члены Совета были из зажиточных крестьян, которые не всегда были лояльными к новой Советской власти. В данной ситуации Сельские Советы, совместно с Комитетами крестьянской бедноты, могли свободно проводить политику «Военного коммунизма», т. е. изымать продовольствие, земельные участки и даже, раскулачив, высылать за пределы деревни. Это означало, что Сельские Советы, ККБ и ВЧК проводили и реализо- вывали партийно-государственную политику по раскулачиванию – сделать село свободным от зажиточных крестьянских хозяйств. Именно так определила свою роль местная Советская власть в Курмышском уезде Симбирской губернии1.
Нередко Комитеты крестьянской бедноты формировались карательными органами. В деревню приезжал отряд по сбору продовольствия, командир выступал с речью перед крестьянами о добровольной сдаче зерна и других продуктов. Те Сельские Советы, которые не оказывали поддержку сотрудникам ВЧК, подлежали расформированию, и на их место избирался новый состав Совета из беднейших крестьян. Всех, кто не поддерживал требование добровольной сдачи зерна или выступал против, ВЧК немедленно «раскулачивал» и в короткий срок высылал за пределы губернии. По состоянию на начало 1922 г. в Симбирской губернии насчитывалось 995 сельских кресткомов, которые работали под руководством 76 волостных комитетов взаимопомощи. Всего в голодающих районах в 1921–1922 гг. действовало 3 338 волостных и 21 612 сельских кресткомов, т. е. более трети всех ККОВ России того периода2.
Стоит особо подчеркнуть, что политика экономического стимулирования (колхозной) кооперации принесла значительные результаты как для крестьян, так и для уезда в целом. Статистика по уезду свидетельствует, что в колхозах бедняцкие хозяйства крепли быстрее. По итогам 1925– 1927 гг. безземельные крестьяне в колхозах составили 1,5 % (в уезде – 6,0 %), безлошадные – 21,6 % (41,2 %) и без крупнорогатого скота – 14,3 % (29,7 %)3.
К 1927 г. в уезде удалось, помимо ввода в оборот заброшенных земель, восстановить поголовье скота. Так, если в 1913 г. рабочих лошадей было 93 771 голова, в 1924 г. – 46 136, а в 1927 г. – 73 713; крупнорогатого скота – соответственно, 91 097, 49 188 и 139 527 голов. Ключевой проблемой оставалось обеспечение качества, но и здесь было понимание направления движения и алгоритма действий. В том же 1927 г. по линии Сельхозбанка было выделено 343 000 руб. на племенную работу, закупку элитных семян, мелиорацию, переселение и машинизацию. При колхозах было заложено шесть опытных участков на ста гектарах. В 1928 г. планировалось кредитование на сумму 840 160 руб.4
Явные элементы сходства столыпинской аграрной реформы и политики, проводимой в 1920-е гг., объяснялись однотипностью экономических задач и кадровой преемственностью идеологов и практиков этих реформ (в Наркомземе и профильных институтах). Вместе с тем были и принципиальные различия этих двух процессов. Разногласия между левой и правой оппозициями все-таки были тактическими (сталинская группа, исходя из своих соображений, становилась на ту или иную сторону, зачастую перехватывая лозунги оппонентов). Было единое понимание того, что средства для переустройства сельского хозяйства должно дать само крестьянство, и эта перестройка должна проходить в интересах бедняков. Однако были нюансы в трактовке роли государства, соотношении аграрного и индустриального секторов, в формах и темпах коллективизации. Несмотря на эти расхождения, в основном разногласий не было. Уже в рамках избирательной кампании 1927 г. органы власти на местах проводили четкую линию по ограничению и лишению зажиточных крестьян политических прав.
Список литературы Газета «Рабоче-крестьянская правда» в 1920-е гг.: доколхозная крестьянская жизнь
- Комлев Д.С., Мухамедов Р.А. Социальная государственная политика в условиях голода 1921-1922 г. (на материалах Симбирской губернии) // История Поволжья сквозь призму истории России: сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 150-летию со дня рождения историка Е.В. Тарле и 80-летию кафедры истории УлГПУ им. И.Н. Ульянова. Ульяновск, 2024. С. 192-196. EDN: UHIGIM
- Мухамедов Р.А. Советская деревня в 1950-1960-е годы: социально-экономические проблемы (на материалах Ульяновской области) // Российское крестьянство и сельское хозяйство в контексте региональной истории: материалы VII Всероссийской (ХV региональной) с международным участием конференции историков-аграрников Среднего Поволжья. Йошкар-Ола, 2018. С. 577-582.
- Мухамедов Р.А. История "создания" колхоза через призму отдельной крестьянской татарской семьи // Развитие регионоведческих исследований в Российской Федерации: особенности и основные направления: сборник статей всероссийской научно-практической конференции. Казань, 2019. С. 282-288.
- Мухамедов Р.А., Бойко Н.С. Советская молодежь в 1980-е годы: идейно-политическая и экономическая деятельность (на материалах Ульяновской области) // Вестник Марийского государственного университета. Серия: Исторические науки. Юридические науки. 2021. Т. 7, № 4. С. 343-350. DOI: 10.30914/2411-3522-2021-7-4-343-350 EDN: EKJFGF
- Мухамедов Р.А., Субботин Д.А. Развитие аграрного сектора экономики в рамках реализации решения сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС и принятого закона от 31 марта 1958 года (на материалах Ульяновской области) // Международный научно-исследовательский журнал. 2021. № 3 (105). С. 182-186. DOI: 10.23670/IRJ.2021.105.3.096 EDN: DHALZL
- Яров С.В. Россия в 1917-2000 гг. М., 2014. 510 с.