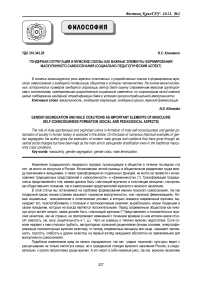Гендерная сегрегация и мужские союзы как важные элементы формирования маскулинного самосознания (социально-педагогический аспект)
Автор: Клименко Н.С.
Журнал: Вестник Красноярского государственного аграрного университета @vestnik-kgau
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 2, 2012 года.
Бесплатный доступ
В статье анализируется роль мужских спонтанных и упорядоченных союзов в формировании мужского самосознания и гендерной поляризации общества в истории человечества. На основе многочисленных исторических примеров гендерной сегрегации автор дает оценку современным мужским группировкам и коллективам, претерпевшим существенные социальные изменения, но сохранившим своей главной целью поддержание гендерной стратификации даже в условиях кризиса традиционной маскулинности.
Маскулинность, гендерная сегрегация, гендерный кризис, мужская феминизация
Короткий адрес: https://sciup.org/14082235
IDR: 14082235 | УДК: 316.343.28
Текст научной статьи Гендерная сегрегация и мужские союзы как важные элементы формирования маскулинного самосознания (социально-педагогический аспект)
Изменение традиционного гендерного порядка, происходящее в обществе в течение последних ста лет, не могло не коснуться и России. Исчезновение четкой границы в общественном разделении труда между мужчинами и женщинами, а также трансформация их социальных функций, не могло не привести к исчезновению традиционных представлений о «маскулинности» и «фемининности» [1]. Трансформация традиционных представлений о том, какими должны быть «настоящий мужчина» и «настоящая женщина», коснулась как общественного сознания, так и самосознания представителей мужского и женского населения.
В этой статье мы остановимся на проблеме формирования именно мужского самосознания, так как гендерный кризис иными словами называют «кризисом маскулинности», или «мужской феминизацией». Новые социальные, экономические и политические условия, в которых оказался современный мужчина, вынуждают его, приспосабливаясь к сложным и противоречивым реалиям, вырабатывать новые тенденции в своем поведении, которые не всегда являются положительными. Перед современным обществом как никогда остро встает вопрос: каким должен быть «настоящий мужчина»? Представления о положительных мужских качествах, как ни странно, не претерпевают изменений с течением времени (к ним испокон веков относят смелость, ум, силу, решительность и т. д.). Чего не скажешь о типично мужских недостатках. Если совсем недавно к ним относили грубость, авторитаризм, излишний рационализм (иными словами, гипертрофированные положительные мужские качества), то теперь современные женщины все чаще называют пассивность, трусость, слабость и другие качества, на первый взгляд кажущиеся абсолютно не приемлемыми для маскулинного самосознания.
Подобным изменениям вряд ли можно порадоваться, так как упадок «мужской» культуры ведет к расшатыванию не только института семьи, но и гражданской позиции мужского населения России, а следовательно, к утрате патриотизма среди мужчин. А это несет в себе немалый риск, так как мужское население на сегодняшний день все же продолжает являться основой военной безопасности Российской Федерации и ее политики.
Критических статей, связанных с оценкой падения значимости традиционных маскулинных стереотипов, в последнее время вышло довольно много (работы И.С. Кона, Е. Вовк, Р. Коннел и др.).
Мнения исследователей в оценках кризиса маскулинности расходятся: от ностальгии по «настоящему мужику» до принятия ломки гендерных стереотипов как неизбежной ступени эволюционного развития общественного сознания. Однако, если проблема в обществе существует, то большинство общественных наук сразу бросается на поиск путей ее решения. А если проблема кроется в девальвации положительных маскулинных качеств современными мужчинами, то в ее основе лежит трансформация маскулинного самосознания. Одним из элементов формирования маскулинного самосознания является мужская социализация, то есть когда мальчик, юноша, а позже и мужчина, осваивает нормы и стереотипы мужского поведения через общение с представителями своего пола и принадлежность к определенной однополой группировке. Данное явление, которое, на наш взгляд, заслуживает тщательного изучения со стороны социологов и педагогов, как важнейший элемент воспитания подрастающего поколения и корректировки общественного сознания, получило название «гендерная сегрегация» [5].
Гендерная сегрегация существовала задолго до появления на свет человечества. Обособление по половому признаку можно встретить и в животном мире, например, у приматов [4, с. 69]. Стремление же человека к созданию однополых группировок, внутри которых формируются специфические правила поведения, определенные ценности, а иногда и субординация (причем, у мужчин тенденция к сегрегации на протяжении всей истории человечества была выражена сильнее, чем у женщин), ученые называют гомосоциальностью. Непосредственно в маскулинном контексте тенденция мужчин к однополым объединениям в западной науке получила название male bonding [4, с. 66].
В независимости от названия данного явления оно играло и продолжает играть важную роль в социализации мужчин и формировании маскулинного самосознания особенно в детском и подростковом возрасте. Воспитание мальчиков в отличие от воспитания девочек никогда не ограничивалось родительской семьей. Мужская социализация в мужских коллективах еще древних обществ традиционно происходила по двум направлениям – вертикальном (взрослые мужчины воспитывают мальчиков) и горизонтальном (общение со сверстниками, которое является гарантом социально-возрастной автономии мальчиков) [3, с. 26]. Идея о том, что мужчина может стать мужчиной только благодаря другим мужчинам, часто влекла за собой отделение мальчиков от женского общества и, прежде всего, от матери.
Еще в Древней Спарте сыновей рано отделяли от матери, передавая их в руки воспитателей-мужчин [6, с. 32]. Именно в Спарте мужские союзы стали оформляться в более организованные общества – мужские образовательные коллективы. «Спартанский эксперимент» с позиции наших дней можно рассматривать не только как один из наиболее исторически значимых элементов гендерной сегрегации, но и как пример внедрения гендерного подхода в образовании. Вся система воспитания и обучения подрастающих мужчин в Спарте была подчинена государственным целям, а именно созданию абсолютной военной нации, физически сильной и способной выстоять в условиях постоянных войн, проводимых Спартой.
Помимо Спарты, особые мужские союзы, дома и тайные общества существовали практически во всех архаических обществах. В то время как жизнь женщин была полностью подчинена семейному быту и детям, а то и другое реализовывалось в семье, мужчины, движимые социальными и сексуальными импульсами, создавали все общественно значимые и политические институты [4, с. 67]. Несмотря на многообразие мужских союзов в истории человечества и вариативность их целей (образовательная, военная, культовая и т. д.), в их основе, по мнению бременского этнографа Генриха Шурца, лежит «инстинктивная симпатия между мужчинами, из которой вырастают все социальные связи, патриотизм и воинские доблести» [4, с. 68].
В современном обществе значение мужских объединений значительно уменьшилось. Однако и сейчас тенденция к гендерной сегрегации и потребность в общении с представителями своего пола наблюдается у большинства мальчиков уже в дошкольном возрасте. Эта потребность в наши дни учитывается в специализированных мужских учебных заведениях, таких, как кадетские корпуса и военные училища [2]. Современные споры о «плюсах» и «минусах» раздельного обучения не опровергают преимуществ «маскулинных тенденций» в образовании и воспитании кадет, которые включают:
-
- сведение угрозы мальчишеской феминизации до минимума за счет активного участия в образовательном процессе мужчин (и не просто мужчин, а «мужчин в форме», представителей военной профессии, что само по себе ориентирует воспитанников на культивирование таких неразделимых с маскулинностью качеств, как сила и мужество);
-
- уважительное отношение к великим историческим деятелям, что учитывает необходимость ключевого момента воспитания мужчины, а именно темы героизма;
-
- культивирование товарищеских отношений, что помогает свести до минимума такие проявления подростковой агрессии, как школьное насилие, буллинг (травля) и хейзинг (дедовщина) [3, с. 33];
-
- самоуправление, которое дает возможность для развития лидерской позиции у воспитанников, умения принимать решения и брать на себя ответственность за их выполнение, что, безусловно, является важной составляющей мужского характера;
-
- культивацию рыцарского отношения к даме, которое способствует формированию положительных маскулинных стереотипов у будущего мужчины;
-
- формируют физическую подготовку воспитанников, которая также являются немаловажной маскулинной характеристикой.
Приведенные выше выводы подкреплены результатами анкетирования, проведенного нами в старших классах одного из кадетских корпусов Красноярского края. На просьбу выбрать из списка то, что они считают главной задачей в жизни, воспитанники кадетского корпуса чаще всего выбирали пункты «стать патриотом и настоящим гражданином» и «стать настоящим мужчиной». В то время как их ровесники из средних общеобразовательных школ останавливали свой выбор на пунктах «успех в карьере» и «финансовое обогащение». На вопрос о том, что смогли бы они принести свою жизнь в жертву во имя государства, больше половины воспитанников кадетского корпуса ответили утвердительно, в то время как практически все испытуемые из общеобразовательной школы затруднились ответить.
Таким образом, можно сделать вывод, что специализированные мужские учебные заведения, такие, как кадетские корпуса и военные училища, могут явиться мощным средством реанимации положительного образа утерянной маскулинности в российском общественном сознании. Безусловно, это не единственный пример мужской сегрегации, который мы можем наблюдать в современном обществе. По мнению И.С. Кона, «потребность в закрытом для женщин пространстве общения с себе подобными у мужчин по-прежнему велика, мужское товарищество и дружба остаются предметами культа и ностальгии» [4, с. 72]. Подобная тенденция к обособлению в спорте, музыке и даже в формах проведения досуга не может не накладывать отпечаток на психологию и идеологию современной маскулинности.