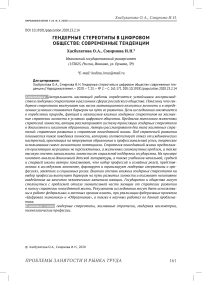Гендерные стереотипы в цифровом обществе: современные тенденции
Автор: Хасбулатова Ольга Анатольевна, Смирнова Инна Николаевна
Журнал: Народонаселение @narodonaselenie
Рубрика: Проблемы занятости и рынка труда
Статья в выпуске: 2 т.23, 2020 года.
Бесплатный доступ
Актуальность настоящей работы определяется устойчивым воспроизводством гендерных стереотипов в различных сферах российского общества. Показано, что гендерные стереотипы выступают как часть мотивационного комплекса личности и в определенных условиях становятся барьером на пути ее развития. Цель исследования заключается в определении природы, функций и механизмов влияния гендерных стереотипов на жизненные стратегии личности в условиях цифрового общества. Предлагая типологию жизненных стратегий личности, авторы рассматривают систему трансляции гендерных стереотипов в дошкольном и школьном образовании. Авторы рассматривают два типа жизненных стратегий: стратегию развития и стратегию повседневной жизни. Под стратегией развития понимается такое поведения личности, которому соответствует отказ от иждивенческих настроений, ориентация на непрерывное образование и профессиональный успех, творческое использование своего личностного потенциала. Стратегия повседневной жизни предполагает ориентацию на решение не перспективных, а жизненных сиюминутных проблем, а также высокую степень зависимости личности от социальной поддержки государства. На примере контент-анализа дошкольной детской литературы, а также учебников начальной, средней и старшей школы авторы показывают, что набор профессий и семейных ролей, представленных в исследуемом контенте, формирует и транслирует гендерные стереотипы о профессиях, занятиях и социальных ролях. Высокая степень влияния гендерных стереотипов на выбор профессии выступает барьером на пути развития личности и оказывает негативное воздействие на качество человеческого капитала женщин. Государство и общество могут столкнуться с проблемой отказа значительной части женщин от стратегии развития в пользу стратегии повседневной жизни. Результаты исследования могут быть использованы в работе федеральных и местных органов власти, при реализации федеральных проектов «Цифровая экономика» и «Образование», а также в научных работах по данной проблематике.
Гендерные стереотипы, жизненные стратегии, гендерная асимметрия, технологические профессии
Короткий адрес: https://sciup.org/143173646
IDR: 143173646 | DOI: 10.19181/population.2020.23.2.14
Текст научной статьи Гендерные стереотипы в цифровом обществе: современные тенденции
Интерес к гендерной асимметрии в российском обществе актуализировался в связи с возникновением новых тенденций на рынке труда, в сферах семейной и образовательной политики. Тренды цифровизации, возникновения новых профессий, усиления роли технологического образования заставляют переосмыслить факторы, определяющие выбор тех или иных жизненных траекторий личности. Авторы статьи полагают, что одним из наиболее значимых детерминант, предопределяющих выбор жизненных стратегий, выступают гендерные стереотипы. Цель данной статьи — раскрыть природу, функции и важнейшие механизмы влияния гендерных стереотипов на жизненные стратегии личности в условиях формирования цифрового общества.
Концептуальные основы изучения гендерных стереотипов, основные дефиниции и подходы, анализ содержания гендерных стереотипов и механизмов гендерной стереотипизации широко раскрываются и в зарубежных [1; 2; 3; 4], и в отечественных исследованиях [5; 6; 7; 8; 9; 10]. Начиная с 1970-х г., зарубежными учеными отмечается ключевая особенность гендерных стереотипов — существование в общественном сознании устойчивых образов женственности/феминности и мужественности/маскулинности. Так, в классическом определении отмечается, что «гендерные стереотипы — это схематизированный набор представлений о персональных характеристиках мужчин и женщин» [11. Р. 222]. Авторы определения подчеркивают, что в подобный набор представлений входят и социальные представления о том, какие качества и свойства атрибутируются мужчинам и женщинам, и представления о подобающих для мужчины и женщины занятиях и социальных ролях в обществе и семье. Учеными отмечается также культурно-символическая составляющая гендерных стереотипов, предполагающая соотнесение с мужским и женским началом вещей, свойств и отношений, непосредственно с полом не связанных (например, гендеризации может подвергаться целая нация, политические фигуры или элементы ландшафта) [12; 13; 14]. Процесс генде-ризации оказывает постоянное влияние на систему гендерных отношений в том или ином обществе.
Ученые выделяют следующие важные свойства гендерных стереотипов: их эмоционально-оценочный характер, устойчивость и стабильность, высокую степень единства представлений, нормативность. Исследователи признают, что образы маскулинности и феминности стереотипны, если их разделяют, по крайней мере, три четверти индивидов в пределах общности [11. Р. 71–74].
На данный момент в гендерных исследованиях существует несколько теорий, объясняющих устойчивость гендерных стереотипов. Одна из теорий (концепция социальных ролей) основана на предположении о том, что гендерные стереотипы возникают в результате разной для мальчиков и девочек социализации, обучения их различным социальным ролям в условиях традиционного патриархатного общества [15. Р. 9–11]. Другая теория (когнитивного развития) акцентирует внимание на приобретении детьми осведомленности о мире: познавая мир, они усваивают гендерные стереотипы [4]. Еще одна теория (гендерной схемы) учитывает в приобретении гендерных стереотипов культурный фактор [16]. Так или иначе, все авторы, по-разному объясняющие устойчивость гендерных стереотипов, сходятся во мнении, что к 3–4 годам у ребенка формируются представления о мужском и женском, «своем» и «другом» поле.
Вместе с тем, гендерные стереотипы выполняют в любом обществе важные социокультурные функции: поддержания групповой идентичности, когнитивную (упрощение сложных представлений о мире), социализирующую, социального контроля и другие. С возрастом характеристики, присваиваемые индивидами мужским и женским образам, все более дифференцируются, укрепляя гендерную асимметрию и гендерную иерархию в обществе. Тем самым гендерные стереотипы воспроизводят сами себя.
В гендерных стереотипах ученые выделяют два уровня: персональный и культурный [15. Р. 3]. Последний уровень достаточно разнообразен: сюда включаются и представления о качествах мужчин и женщин, и представления о гендерной специфике мужских и женских ролей, профессий и занятий. При этом, описывая стереотипный образ мужчины, исследователи, как правило, упоминают качества, коррелирующие с деятельностью и активностью: предприимчивость, решительность, настойчивость, стремление к достижению цели и к соревнованию, стремление к приключениям. Женщине, напротив, отказывается в этих качествах — ей предписывается пассивность, нерешительность, осторожность, забота [17]. Отметим, что стереотипный образ маскулинности намного разнообразнее по содержанию и имеет более позитивную оценку.
В науке достаточно изучены расовый, этнический [18; 19], институциональный [20], возрастной [21; 22] факторы, влияющие на гендерные стереотипы. Немногочисленные исследования посвящены гендерным стереотипам как детерминантам образа жизни людей, их жизненных стратегий. Между тем, гендерные стереотипы выступают как часть мотивационного комплекса личности и в определенных условиях могут выступить барьером на пути ее развития.
Формирование цифрового общества, обозначенное как стратегический вектор развития России, характеризуется доминированием знаний, науки, технологий, информации во всех сферах жизни, включая взаимодействие граждан, хозяйствующих субъектов и государственных органов [23. С. 117]. Основополагающими субъектами цифрового общества выступают граждане, мужчины и женщины, предприниматели и наемные работники, студенты и ученики. Ведущей формой ро- ста становится развитие человеческого капитала.
В условиях перехода к цифровому обществу статус женщин и мужчин на рынке труда, их стремление к совершенствованию профессиональных навыков будут во многом зависеть от выбора жизненной стратегии. Применительно к теме исследования целесообразно рассмотреть два типа жизненной стратегии, где могут быть востребованы «навыки ХХI века», это стратегия развития и стратегия повседневной жизни.
Под стратегией развития мы будем понимать такую конструкцию жизнедеятельности и поведения личности, которой соответствует отказ от иждивенческих настроений, ориентация на непрерывное образование и профессиональный успех, творческое использование своего личностного потенциала. В основе стратегии развития лежит совокупность обстоятельств и условий жизни, которые стимулируют личность и дают возможность для оптимального жизненного продвижения. Человек, выбравший стратегию развития, обладает интеллектуальным ресурсом, стремится к профессиональному росту, а значит, владеет современными информационными технологиями. При этом следует иметь в виду, что для поколения Z цифровые технологии должны стать неотъемлемой частью каждой из сфер жизни человека. Можно сказать, что человек, выбравший стратегию развития в условиях формирования цифрового общества, должен обладать цифровой грамотностью, включая навыки компьютерного программирования, поиска, обмена информацией, выстраивать индивидуальные образовательные маршруты обучения, самообразования и повышения квалификации, не исключая приобретения второй профессии.
Стратегия повседневной жизни предполагает ориентацию на решение не перспективных, а жизненных сиюминутных проблем, а также высокую степень зависимости личности от социальной поддержки государства. Люди, выбирающие эту стратегию, как правило, не ставят целей карьерного роста, не рассчитывают на свои силы, пассивны в сфере занятости. Конструирование жизненной стратегии повседневной жизни базируется на комплексе заниженной самооценки, высокой профессиональной и бытовой загруженности, государственной политике социального протекционизма. Стратегия повседневной жизни не предполагает стремления к вершинам профессиональной карьеры. Ценность профессиональной работы определяется не творческим содержанием или владением цифровыми технологиями, а регулярной оплатой труда.
Гендерные стереотипы в дошкольном возрасте
Дошкольный возраст 3–6 лет часто несправедливо выпадает из исследовательского поля, а ведь именно в этот период ребенок начинает осознавать, что такое профессия, у него закладываются основы гендерной социализации [24. С. 5–6], формируется гендерная идентичность [25], могут приобретаться STEM-навыки1 [26]. Поэтому ориентация общества на непрерывное технологическое образование требует более внимательного отношения к дошкольному периоду как к базису формирования социальной мотивации лич- ности. В этом контексте важное значение приобретают не только сюжетно-ролевые игры (например, в учителя/учительницу; продавца/продавщицу и подобные), но и дошкольная детская обучающая литература о профессиях, представленная в настоящее время достаточно разнообразными изданиями.
Проведенный контент-анализ детской литературы2 позволяет сделать выводы о том, что в сфере семейных отношений четко прослеживается гендерная стереотипизация мужских и женский ролей: папа (дедушка) чинит, носит тяжести, читает в кресле, водит машину; мама (бабушка) готовит, гладит, стирает, ухаживает за садом, ходит в магазин. За женщиной традиционно закрепляется приватная, домашняя сфера, а за мужчиной — сфера профессиональной и досуговой деятельности.
Исследование зафиксировало также неоднородность гендерной информации в различных типах детских книг. В книгах о профессиях практически не представлены «женские образы» профессий. В общем объеме профессий (30 наименований) женскими образами обладают профессии бытового облуживания (швея, портниха и прочие), но даже их название носит «мужской» грамматический род — портной, модельер, мастер-закройщик, парикмахер.
Очевидно, что низкая частота использования женских образов в перспективе приведет к снижению самооценки девочек, а, может быть, и к подавлению ими своих способностей. Анализ контента подтвердил определенную связь «мужских» образов профессий и образования. Строитель, пожарный, автослесарь, врач — все они «специально и хорошо учи- лись» и «много знают». В женских образах профессий этой тенденции не прослеживалось. Таким образом, набор профессий и семейных ролей в современной детской дошкольной литературе формирует и транслирует гендерные стереотипы. В результате к первому классу начальной школы ребенок уже имеет такие представления о «мужских» и «женских» профессиях, которые не способствуют вовлечению девочек в высокотехнологические профессии.
Гендерные стереотипы в средней школе
Обращение к содержанию учебного процесса в период перехода к цифровому обществу имеет принципиальное значение, поскольку речь идет о формировании у девочек и мальчиков технологических навыков ХХI века. Исследования показывают, что в учебном процессе в средней школе не только сохраняются заложенные ранее гендерные стереотипы, но и поддерживается гендерное неравенство, когда важнейшими школьными предметами для мальчиков считаются технические предметы, а для девочек — гуманитарные. Тем самым программируется выбор любимого учебного предмета в зависимости от пола, а поддержка интереса мальчиков и девочек к различным знаниям и играм не обеспечивают им равных условий для выбора будущей профессии.
Контент-анализ учебников начальной, средней и старшей ступеней общего образования, проведенный авторами в 2018–2019 гг., показал, что школьная литература воспроизводит традиционные гендерные стереотипы в наборе профессий, женских и мужских образов, а также семейных ролей3. В учебниках начальной и средней школы прослеживается гендерная стереотипизация мужских и женский ролей: папа (мужчина, мальчик) чинит, водит машину, мастерит пропеллер самолета, работает за компьютером; женщина (мама, девочка) ухаживает за огородом, накрывает на стол, стирает, вышивает, играет с детьми. При этом по сравнению с учебниками начальной школы, в комплектах для средних и старших классов доля «мужских» занятий постепенно возрастает, а доля «женских», как правило, снижается. Женщины исключаются из высокотехнологичных профессий, становятся «невидимыми». В учебниках по информатике, физике, химии, астрономии, экономике доминируют мужские образы, в некоторых случаях они отражены на обложке учебника.
В учебниках среднего и старшего звена представлены в основном ученые-мужчины, а информация о женщинах, внесших вклад в науку, практически отсутствует. Так, упоминание в учебнике по информатике 10 класса об Аде Лавлейс как о первой женщине-программистке отнесено в категорию «известно ли Вам» и напечатано более мелким шрифтом, чем основной текст учебника, что указывает на второстепенность представленной информации.
В ходе контент-анализа учебников средней и старшей ступеней общего образования были выявлены неравномерные апелляции к гендерным характеристикам. Например, на страницах учебников по информатике доминируют обращения «дорогой друг» и «дорогой старшеклассник», преобладает изображение мальчика, сидящего за компьютером (в том числе и на обложке учебника). Изучение основ экономики пестрит многочисленными примерами и заданиями, связанными с мужскими образами. В учебниках по химии и биологии исследователи, как правило, мужчины. Таким образом, профессиональная сфера на страницах школьных учебников на 86% обозначена как стереотипно мужская.
В целом проведенная гендерная экспертиза дошкольной и школьной учебной литературы показала, что ее содержание противоречит современной концепции технологического образования и практически закладывает основы гендерной стереотипизации профессий. На страницах учебников одаренных девушек и женщин нет, в их способности мало кто верит. В результате девочки не верят в себя, не могут сформировать интерес к математическим, инженерным и техническим наукам. Очевидно, что решение проблемы требует изменения методологии технологического образования в диапазоне «детский сад — общеобразовательная школа».
Следует отметить, что национальный проект «Образование» в настоящее время уделяет значительное внимание технологическому развитию детей и молодежи в системе дополнительного образования. Об этом свидетельствуют повсеместные открытия технопарков и инновационных центров в школах. Однако практика показывает, что среди обучающихся в системе дополнительного технологического образования большинство составляют мальчики и юноши, что сдерживает карьерные устремления девочек и девушек. Учебный курс «Технология», продолжающий обучать девочек навыкам домохозяйки, а мальчиков — ремесленника, становится тормозом технологического образования молодежи.
Насколько глубоко в сознание молодежи проникают установки на «мужские» и «женские» профессии, можно определить на примере социологического мониторинга, проведенного авторами в 2017– 2019 гг. среди старшеклассников Ивановской области (опрошено 500 человек в 2017 г., 378 человек — в 2019 г.).
Исследование показало, что к старшим классам школы половина юношей и девушек уже определились с выбором профессии. В то время как для мальчиков предпочтительными являются технологические профессии программиста и инженера, а также профессии, связанные с риском (военный, спасатель, сотрудник МЧС), девочки ориентируются на помогающие профессии педиатра, психолога, фармацевта, а также профессии, связанные с модой и дизайном (косметолог, дизайнер, архитектор). Чем обусловлена подобная дифференциация профессиональных ориентаций? Доминирующей причиной выбора и у юношей, и у девушек выступает соответствие профессии способностям личности (68% опрошенных). При этом профессиональный выбор юношей чаще обусловлен экономическими запросами общества и уровнем оплаты труда, а выбор девушек — влиянием различных агентов: родителей, репетиторов, студентов-практикантов.
В ходе исследования были изучены предметы, которые вызывают интерес у юношей и у девушек. Так, девушки из технологических предметов с наибольшим интересом изучают только биологию, в то время как юноши — алгебру, физику, информатику, геометрию. Причины низкого интереса к предметам STEM-цикла у девушек — это стереотип об отсутствии способностей (58,1%), интереса (52,9%), сложность предмета (43,8%). Юноши изучают обозначенные предметы с большим интересом, так как планируют сдавать ЕГЭ (63,5%), отмечают наличие способностей (47,2%) и интереса (32,4%). Опрос показал, что юноши в 5 раз чаще девушек занимаются научно-техническим творчеством, слушают специализированные элективные курсы и посещают центры технического творчества за пределами школы. Девушки если и демонстрируют интерес к научно-исследовательской деятельности, то чаще это происходит в рамках школы.
Все эти факторы приводят к тому, что юноши в два раза чаще, чем девушки обозначают свое желание иметь высокотехнологическую профессию (такое желание характерно для 70% юношей и для 35% девушек). Среди причин такого нежелания почти половина опрошенных девушек называет отсутствие способностей (40,6%) и свое иное предназначение (55%). Таким образом, заниженная самооценка девушек обуславливает их низкую вовлеченность сначала в предметы STEM-цик- ла и научно-исследовательскую деятельность, а позднее негативно влияет на профессиональный выбор.
Заключение
Проведенное исследование позволило выявить следующие закономерности. Гендерный анализ учебной литературы, процессов вовлечения мальчиков и девочек в технологическое образование, изучение их ценностных ориентаций на выбор профессии показывают, что все школьное образование коррелирует с выбором профессии по поло-ролевому признаку. Стереотип о лучших способностях мальчиков и юношей в цифровой экономике, отсутствие ролевых образцов в сферах науки, STEM-профессий, управления компаниями и крупными бизнес-структурами сдерживают карьерные устремления девушек, ограничивают их выбор в пользу стратегии развития. В результате высокая степень влияния гендерных стереотипов на выбор профессии выступают барьером на пути развития личности и оказывают не- гативное воздействие на качество человеческого капитала женщин.
Объявленный государством курс на формирование цифрового общества требует комплексных, системных мер по внедрению гендерного подхода в систему подготовки педагогических кадров, устранению гендерных стереотипов из процесса образования и вовлечению всех девочек и девушек в обучение технологическим навыкам. В противном случае государство и общество могут столкнуться с проблемой отказа значительной части женщин от стратегии развития в пользу стратегии повседневной жизни. Не нашедшие работу в сфере технологических профессий, составляя половину трудовых ресурсов страны, женщины будут вынуждены работать в низших сегментах экономической и социальной сфер, а это препятствие для формирования цифровой экономики. Данные проблемы пока не рассматриваются органами государственного управления, но обсуждать их нужно для формирования полномасштабного цифрового общества.
Список литературы Гендерные стереотипы в цифровом обществе: современные тенденции
- Mckee J.P., Sheriffs A. C. The differential evaluation of males and females // Journal of Pers. 1957. Vol. 25. No. 2. P. 356-371.
- Connell R. W. Masculinities. Berkeley, Los-Angeles: University of California press, 1995. 324 p.
- DeauxK., Lewis L.L. Structure of gender stereotypes: Interrelations among components and gender label // Journal of Personality and Social Psychology. 1984. No. 45(5). P. 991-1004.
- Lips H.M. Sex and Gender: An introduction. Virginia: Radford University press, 1997. 293 p.
- Виноградова Т., Семенов В. Сравнительные исследования познавательных процессов у мужчин и женщин: роль биологических и социальных факторов // Вопросы психологии. — 1993. — № 2. — С. 63-71.
- Гендерный подход в дошкольной педагогике: теория и практика: в 2 ч. / под ред. Л. В. Шты-левой. — Мурманск: ОУ КРЦДОиРЖ, 2001.— 352 с.
- Рябова Т.Б., Рябов О.В. Гендерные стереотипы как фактор социальных конфликтов // Вестник Костромского государственного университета им. Н. А. Некрасова. Серия Психологические науки: Акмеология образования, Гендерная психология. — 2005. — Т. 11. — № 4. — С. 210216.
- Рябова Т.Б. Стереотипы и стереотипизация как проблема гендерных исследований // Личность. Культура. Общество. — 2003. — Т. 5. — № 1-2 (15-16). — С. 120-138.
- Хасбулатова О.А. Гендерные стереотипы в политической культуре: специфика российского опыта // Женщина в российском обществе. — 2001. — № 3/4. — С. 17-24.
- КлецинаИ. С. Гендерная психология. — СПб.: Питер, 2009.— 496 с.
- Ashmore R.D., Del Boca F. K. The social psychology of female-male relations: A critical analysis of central concepts. New York.: Academic Press, 1986. 345 p.
- Рябов О.В. Нация и гендер в визуальных репрезентациях военной пропаганды // Женщина в российском обществе. — 2005. — № 3-4. — С. 19-28.
- Рябов О.В. «Отстоим Волгу-матушку!»: материнский символ реки в дискурсе Сталинградской битвы // Женщина в российском обществе. — 2015. — № 2. — С. 11-27.
- Рябова Т.Б. Гендерные стереотипы как фактор оценки субъектов политического процесса // Женщина в российском обществе. — 2008. — № 2. — С. 44-52.
- Basow S.A. Gender stereotypes and roles. California: Pacific Grove, 1992. 212 p.
- Stroebe W., Insko C. A. Stereotype, Prejudice, and Discrimination: Changing Conceptions in Theory and Research // Stereotyping and Prejudice: Changing Conceptions. New York: Springer Series in Social Psychology, 1989. P. 3-34.
- Рябова Т.Б. Гендерные стереотипы и гендерная стереотипизация: методологические подходы // Женщина в российском обществе. — 2001. — № 3-4. — С. 3-12.
- Хотинец В.Ю. Этнические стереотипы: гендерный аспект // Вестник Удмуртского университета. Серия Философия. Психология. Педагогика. — 2008. — № 2. — С. 3-16.
- Воронина О.А. Гендерная культура в России: традиции и новации. — М.: Институт философии Российской академии наук, 2018.— 111 с.
- Селиванова О. С., Мокроносов Г.В. СМИ и гендер: образ женщины в репрезентативных практиках современной российской культуры. — Екатеринбург: УГТУ-УПИ, 2007.— 77 с.
- Забегалина С.В. Особенности содержания гендерных стереотипов в детском возрасте // Семья, брак и родительство в современной России. Выпуск 2. / Под редакцией А. В. Махнача, К. Б. Зуева. — М.: Институт психологии РАН, 2015.— 408 с. С. 96-104.
- Трофимова Н.Б., Чикина М. А. Гендерные стереотипы дошкольников и младших школьников // Известия Воронежского государственного педагогического университета. — 2017. — № 1(274). — С. 198-201.
- Агеев А. И., Аверьянов М. А., Евтушенко С. Н., Кочетова Е. Ю. Цифровое общество: архитектура, принципы, видение // Экономические стратегии. — 2017. — № 1. — С. 114-125.
- Смирнова А. В. Учимся жить в обществе. Гендерный анализ школьных учебников. — М.: Оли-та, 2005.— 80 c.
- Градусова Л.В. Формирование гендерной идентичности дошкольников в проектной деятельности // Мир детства и образование: сборник материалов VIII Всероссийской научно-практической конференции. — Магнитогорск: Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 2014.— 282 с. — С. 78-83.
- Савинская О.Б. Гендерное равенство в STEM-программах дошкольного образования как фактор успешного технологического развития России // STEM: новые перспективы профессиональной занятости женщин. — М.: Акварель, 2016.— 212 с. — С. 102-112.