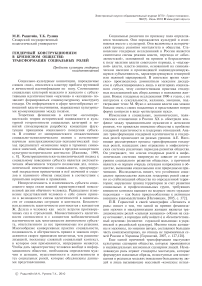Гендерный конструкционизм в кризисном обществе: трансформация социальных ролей
Автор: Родштейн Мария Николаевна, Рулина Татьяна Константиновна
Журнал: Грани познания @grani-vspu
Рубрика: Проблемы культуры гендерных взаимоотношений
Статья в выпуске: 2 (7), 2010 года.
Бесплатный доступ
Изучаются социальные различия по признаку пола. Проводится анализ состояния гендерных исследований на сегодняшний день; выделена сущность понятий «материнство» и «отцовство» в современном обществе
Гендерный конструкционизм, социальные роли, гендерная идентичность, гендерные роли, материнство/отцовство
Короткий адрес: https://sciup.org/14821553
IDR: 14821553
Текст научной статьи Гендерный конструкционизм в кризисном обществе: трансформация социальных ролей
Социально-культурные коннотации, порождаемые словом «пол», относятся к кластеру проблем групповой и личностной идентификации по полу. Соотношение социальных категорий мужского и женского с субъективными идентичностями «мужчина» и «женщина» позволяет формироваться социокультурному конструкту гендера. Он информативен в сфере многообразных отношений власти-подчинения, выражаемых культурными коммуникациями между полами.
Теоретики феминизма в качестве «неэмпири-цистской» теории исторической подвижности и культурной гетерогенности социальных категорий и понятий стимулировали разработку концепции флуктуации принципов социального поведения субъекта. В отличие от эмпирицистского отождествления социально-психологического знания с естественнонаучным конструкционистски-психологический подход предполагает «изменение мира в терминах символов и значений, общезначимых в пределах конкретного культурно-исторического контекста» [Якимова, 1999, с. 8]. Конструкционистски-психологический подход к социальному поведению субъекта является систематическим объяснением текущего положения дел, психологической изменчивости социальности, продуцируемой посредством привлечения в не¸ значений и смыслов и взаимного обмена смыслами в соответствии с принятыми нормами и правилами.
Неопределенность и изменчивость субъекта социального мира стали важной характеристикой повседневной жизни обычного человека. Радикальное изменение представлений человека о себе самом привело к возможности смены идентичностей в зависимости от социальных ситуации и контекста. Бесконечная делимость идентичности соотносится с концептом Ж. Делеза о человеке как месте встречи противоречивых сил и стремлений. Множественность идентичности соотносится и с концептом мобилистической идентичности как многоликости автономного субъекта, ответственного за все принимаемые им решения. Многообразие конверсивных практик социальности, подвижность и абстрактность правил и законов определяются скорее правилами миметизма, чем рационализацией, поскольку сложный социальный контекст, в котором они применяются, непрерывно меняется. Чтобы дать характеристику человека вообще в информационном обществе, необходимы определения мужчин и женщин, мужественности и женственности и тех социальных ролей, которые обусловлены данными представлениями.
Социальные различия по признаку пола определяются человеком. Они порождаются культурой и изменяются вместе с культурой. Они включены в исторический процесс развития менталитета и общества. Становление гендерных исследований в России является симптомом смены режима власти, перехода от «абсолютистской», основанной на прямом и безразличном к полу насилии власти советского периода, к «надзорной» власти, власти-знанию, основанной на символическом насилии и производящей индивидуализирующуюся субъективность, характеризующуюся гендерной или половой маркировкой. В советское время «женское» производилось доминатным мужским дискурсом и субъективировалось лишь в категориях социального статуса, чему соответствовала практика гендерных исследований как сбора данных о положении женщин. Новые гендерные исследования 1990-х годов, с их интересом к сексуальности, желанию, эмоциям, подтверждают тезис М. Фуко о желании власти как можно больше знать о своих подданных и представляют новую форму контроля в виде «регистрации нужд».
Изменения в социальных, экономических, политических отношениях в России ХХ в. обострили конфликт между традиционными мужскими и женскими ролями, что привлекло внимание общества к проблеме гендерной идентичности и гендерных отношений. Анализ трансформации гендерной идентичности и гендерных ролей происходит на разных уровнях. А.Е. Наговицын рассматривает процесс трансформации гендерных ролей, нашедших свое отражение в мифологических системах различных периодов развития общества. Он утверждает, что «смена гендерных ролей в мифологических системах напрямую не зависит от самого уровня социального развития общества», а причиной является «в первую очередь ситуация напряжения в обществе, вызванная социальными или природными причинами». Исследователь пишет, что устойчивое социальное превосходство женских гендерных ролей связано со стабилизацией общества на определенной территории; нарушение границ территории за счет развития социальных и профессиональных групп, требующих внешнего контакта выводит на ведущее место мужские персонажи – как более приспособленные к активным внешним взаимодействиям [Наговицин, 2005, с. 372].
П.П. Горностай в своей монографии «Личность и роль» пишет о том, что одной из причин феминизации мужчин и маскулинизации женщин является традиционализм ролей «сильная женщина» («Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет») и «безответственный мужчина» (психотип «мужской вольницы» в украинской и российской культуре). Именно такие женщины и мужчины, по мнению автора, составляют большую часть комплементарных, но отнюдь не гармоничных семей России и Украины [Горностай, 2007, с. 127,128].
Еще одной причиной трансформации выступают культурные сценарии общества, которые проявляются в индивидуальных жизненных сценариях людей. Немаловажную роль играют стандарты массмедиа, которые формируют идеальные образы, недоступные для воплощения в реальных моделях поведения большинству людей и лишь вызывающие массовый «комплекс непол- ноценности». Можно предположить, что в этом случае возникает феномен расщепленного Я, или смешанной идентичности (Э.Эриксон), в результате которого у личности наблюдается постоянный внутренний плюрализм. С одной стороны, человеку формально предоставляется определенная свобода выбора приоритетных ролей и стилей жизни, общественных форм деятельности и т.д., с другой стороны, социум поддерживает лишь определенный выбор. О роли нормативного и информационного давления пишет Ш.Берн, отмечая, что в обществе по-прежнему поддерживается традиция поощрения определенных половых ролей и следует социальное или даже физическое наказание за несоответствие полоролевым стандартам [Берн, 2008, с. 33].
Подстраиваясь под образ, культивируемый в масс-медиа чисто внешне, остается ли женщина женщиной, а мужчина мужчиной внутренне: на уровне потребностей, интересов, желаний, черт личности и т.д.? Рассматривая данный вопрос на примере трансформации женских ролей, можно констатировать, что эмансипация привела женщин не к равноправию, а к отрицанию аутентичной природы женщины. Желание «уйти от женской роли неизбежно сопровождается чувством неполноценности в вопросах внешней привлекательности, специфической сексуальной женской роли» [Попова, 2008, с. 194].
С. Бем пишет, что, с одной стороны, пол дан нам от природы и его влияние мы можем использовать автоматически. С другой стороны, влияние пола ограничено лишь теми сферами, в которых он действительно воздействует как биологический фактор, поэтому он совершенно безопасно может быть «задвинут» на периферию нашего сознания [Бем, 2004, с. 267]. Однако действительно ли это безопасно? Такой «периферийной» областью в сознании современных мужчин и женщин стал вопрос деторождения. Идеальные образы современного мужчины и женщины плохо согласуются с супружеской стабильностью и многодетностью. Поэтому первоначальная радость от родительского статуса (если она ощущается) вскоре вступает в противоречие с социальными и прочими потребностями личности. Порой она пропадает или перерождается в ощущение обременяющей обязанности, вызывающей внутреннее напряжение и конфликтность. Традиционно в российском обществе взрослый человек без семьи и детей (особенно женщина) считается неполноценным. Поэтому первоначально оба супруга стремятся обрести родительский статус. Однако, пройдя через полосу трудностей и конфликтов внешнего и внутреннего характера в течение 9 месяцев вынашивания и 2–3 лет первоначального ухода за ребенком, далеко не все женщины, а тем более мужчины, хотят обзавестись вторым и третьим ребенком, не говоря о большем количестве детей.
Н.Н. Нарицын, пытаясь ответить на вопрос «Почему люди хотят детей?», приводит различные мотивы, и, безусловно, все они имеют место. Однако последнее время все чаще встает другой вопрос: «Почему люди не хотят детей?». Почему после рождения первого ребенка многие рассматривают очередную беременность как катастрофу? И дело здесь, вероятно, не только в финансовых трудностях российских семей, ведь и вполне обеспеченный Запад не отличается многодетностью. Г.Г.Филиппова, обобщая кросскультурные исследования, посвященные институту материнства, пишет, что в тех случаях, когда рождение ребенка противоречит социальным ожиданиям (вне брака, нарушение социального статуса), женщины могут идти на все, чтобы не рожать детей. Женщина становится лучшей или худшей матерью в зависимости от того, ценится или обесценивается в обществе материнство.
На современном этапе «детоцентризму» активно противостоит тенденция эмансипации женщин. Общество не поддерживает женщину-домохозяйку. Труд по вынашиванию, вскармливанию и воспитанию ребенка не ценится как собственно труд. На протяжении 2–3 лет, посвященных вынашиванию и вскармливанию ребенка, женщина рассматривается как балласт в обществе и семье. Она беспомощна и зависима от мужа или других членов семьи. Потеря физической привлекательности, утрата финансового и социального статусов делают женщину уязвимой и пробуждают желание поскорее выйти из этой ситуации, до минимума сокращая период по уходу за ребенком. Наиболее ярко эта ситуация проявляется у женщин, занимавших высокие посты, с высокими доходами или активным образом жизни. «Привязанность» к ребенку, зависимость от его потребностей становятся для них тяжелым бременем. Но даже для женщины, центрированной на семье и ребенке, данный период является очень тяжелым, т.к. она может чувствовать себя выброшенной из социальной жизни, в то время как муж продолжает быть в нее активно включенным. В этот период жена может терять для него привлекательность в качестве сексуального и социального партнера, период ухода за ребенком может рассматриваться мужем как период безделья женщины и личностного застоя. Зачастую именно эти факторы удерживают женщину от повторной беременности: она не хочет на 2–3 года быть «выброшенной» из жизни общества и эмоционально отвергнутой партнером по браку. Эти мотивы затрагивают основную природную функцию женщины, которая не только не повышает ее статус, а напротив, лишает ее многих преимуществ, вынуждает искать статусных альтернатив, размывая ее идентичность.
Анализируя исследования, посвященные отцовству, можно увидеть следующие негативные факторы, нарушающие в мужскую идентичность. В большинстве традиционных обществ «настоящий мужчина» должен быть не просто сексуально активным, он обязан иметь семью и детей, для которых является защитником и кормильцем. Без статуса отца семейства мужчина не рассматривается полноценным и зрелым. Более того, этот статус часто подкреплялся фискальными нормами (размеры земельного надела и другие привилегии зависели от количества детей).
В такой системе семейных отношений отец не ухаживал за маленькими детьми, но, подрастая, они, особенно мальчики, проводили много времени с отцом, работая под его руководством. Все это наделяло мужчину-отца особым статусом покровителя, авторитетного учителя и позволяло оставлять за собой особое неприкосновенное пространство как в семье, так и за его пределами. Сегодня, особенно в городской среде, этого уже нет. Как работает отец, дети не видят и часто судят об успешности родителя только по размеру его заработка. Вместе с тем внутрисемейный статус его зачастую ниже, чем у матери, т.к. значимость его обязанностей в семье и умение с ними справляться подвергаются критике. Эмоциональная близость отца с детьми часто остается символической, а их реальные взаимоотношения большей частью осуществляются при посредничестве матери [Кон, 2008, с. 2]. Да и само деторождение сегодня не сопряжено ни с социальными, ни с материальными выгодами. В повседневной жизни это привело к тому, что мужчина заботится о том, чтобы удовлетворить свои сексуальные желания, не становясь при этом отцом. Как пишет И. Кон (www), «это делает отцовство как фактор мужской идентичности все более проблематичным и фактором риска». В современном обществе все более правомерной становится позиция, что детей не обязательно иметь, их трудно содержать и еще труднее воспитывать, а отцу их легко потерять (из-за распространенной практики разводов).
Все эти факторы не способствуют формированию таких традиционно мужских позиций, как «защитник», «покровитель», «учитель» – они, скорее, порождают мужской инфантилизм или заставляют мужчин искать иные статусные позиции, что ведет к постоянным противоречиям внутри личности и конфликтам в межполовом взаимодействии.
Очередная трансформация гендерной идентичности и гендерных ролей, на наш взгляд, вызвана той же дилеммой, с которой столкнулись философы эпохи Просвещения: как увязать цель достижения личной независимости с убеждением, что и мужчины, и жен- щины являются неодолимо общественными существами. Очевидно, что и женщины, и мужчины, по сути, должны бороться не за абстрактное, ненужное и невозможное равенство во всех сферах, а за равное уважение к выбору сферы самореализации. Ведь и женщинам, и мужчинам важны признание своей ценности в любой сфере, одобрение и поддержка близких людей и социальной группы, в которой человек функционирует.
Список литературы Гендерный конструкционизм в кризисном обществе: трансформация социальных ролей
- Бем С. Линзы гендера: Трансформация взглядов на проблему неравенства полов/пер с англ. М.: Рос. полит. энцикл., 2004.
- Берн Ш. Гендерная психология. Законы мужского и женского поведения. СПб.: Прайм -ЕВРОЗНАК, 2008.
- Горностай П.П. Личность и роль: ролевой подход к социальной психологии личности. Киев: Интер-Пресс ЛТД, 2007.
- Кон И.С. Отцовство как компонент мужской идентичности. URL: www/neuro. net. ru/sexology
- Наговицин А.Е. Трансформация гендерных ролей в мифологических системах: учеб. пособие. М.: МПСИ: Флинта, 2005.
- Попова Ю.А. Культурно-исторический подход к пониманию женской сексуальности//Человек в современном социуме: культура, этногс, гендер: материалы Междунар. науч. конф. Тула: Изд-во Тул ГУ, 2008.
- Якимова Е.В. Социальное конструирование реальности: социально-психологические подходы: научно-аналитический обзор/РАН ИНИОН. М.: ИНИОН, 1999.