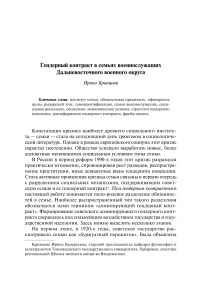Гендерный контракт в семьях военнослужащих Дальневосточного военного округа
Автор: Кривцова Кривцова Ирина
Журнал: Вестник Евразии @eavest
Рубрика: Институты
Статья в выпуске: 2, 2006 года.
Бесплатный доступ
Институт семьи, обязательная праздность, офицерские жены, рыцарский этос, самоидентификация, семьи военнослужащих, социальная реальность, социально-экономические условия, стратегии гендерного поведения, трансформация гендерного контракта, фрейм-анализ
Короткий адрес: https://sciup.org/14911953
IDR: 14911953
Текст статьи Гендерный контракт в семьях военнослужащих Дальневосточного военного округа
официальная борьба за освобождение женщины от «семейного раб-ства»2. Однако этот этап привел к резкому сокращению рождаемости, вспышке венерических заболеваний.
На следующем этапе, продолжавшемся вплоть до начала 1940-х годов, общественным идеалом стал образ женщины-матери, отсылавший к архаическому традиционному гендерному контракту. Проблема рождаемости была разрешена, но возникла новая проблема. Половина населения страны насильственно была исключена из гражданской жизни, в том числе из нормального процесса производства. В то же время великие стройки первых пятилеток создали острейшую нехватку рабочих рук. Еще более эта проблема усугубилась в связи с подготовкой к войне. Ее решением стало утверждение фигуры «работающей матери», завершившее формирование образа «советской женщины» и «советской семьи». Советская женщина — идеал родоначальниц европейского феминизма 1970-х годов — должна была совмещать обязанности матери и хранительницы домашнего очага с работой на производстве. Такая двойная нагрузка делала женщину неконкурентоспособной в публичной сфере. И в семье, и в обществе ей было предопределено субдоминантное положение. Однако именно этот тип отношений рассматривался как идеал советской семьи3. На его поддержание были направлены ресурсы государства, официальная идеология, общественное мнение. На незамужнюю женщину смотрели как на отклонение от нормы. Таким же отклонением выглядела женщина-начальник или женщина — глава семьи, несмотря на распространенность этого явления в поздние советские годы. За мужчиной сохранялись обязанности по материальному обеспечению семьи, поддержанию внесемейных трансакций, функции защитника. Однако мужские обязанности частично принимало на себя государство. Оно позиционировало себя в качестве всеобщего защитника и брало на себя, по крайней мере декларативно, обязанности по материальному обеспечению семьи.
Наиболее полно эти черты советской семьи проявились в среде военнослужащих. К появлению особой специфики семей этого круга привел целый ряд правовых и социальных предпосылок. Первые формировались специальными законодательными актами, выделявшими семьи военнослужащих в особую категорию семей4. Социальные же предпосылки состояли в особенностях самоидентификации, вообще в высоком идеологическом статусе офицерства в советском обществе и, как следствие, в социальной обособленности таких семей.
В настоящей статье рассматривается гендерный контракт в семьях военнослужащих советского периода и его трансформация в условиях современной России. Эмпирическим материалом для анализа послужил ряд интервью с офицерами и их женами (22 неформализованных биографических нарратива), собранных в 2002 году в Хабаровском крае. В качестве дополнительного источника информации привлекались данные формализованного анкетного опроса по случайной выборке, проведенного осенью 2002 года среди офицеров города Хабаровска. Выбор для исследования Хабаровского края обоснован двумя обстоятельствами. Во-первых, местом жительства автора и относительной доступностью материала для меня (обычно военные и их семьи по существу представляют собой замкнутую корпорацию, крайне неохотно открывающую себя для посторонних). Во-вторых, Дальневосточный военный округ дает нам яркие примеры зависимости офицерских семей от уровня государственной поддержки. Наиболее явно проблемы военнослужащих проявляются в условиях неразвитой социальной сферы и депрессивного состояния экономики. Именно здесь они могут быть зафиксированы и описаны.
Характер эмпирической базы предопределил и способы анализа материала. В основном использовались дискурсивные аналитические техники, прежде всего фрейм-анализ 5. В ходе анализа биографических нарративов выделялись устойчивые сочетания смыслов (фреймы), их элементы (микрофреймы) и способы перехода между ними. Наиболее продуктивной оказалась техника «встречного конструирования». Дедуктивно сконструированные фреймы подвергались проверке в ходе неформализованных интервью. Распространенность представлений проверялась в ходе формализованного опроса (n = 456). Результаты обработки эмпирических данных стали основой для описания гендерного контракта в семьях военнослужащих и его трансформации. Отправной точкой нашего исследования явилась самоидентификация офицерской семьи.
Офицерская жена — это профессия
Специфика семьи в военной среде определяется самоидентификацией женщины: «жена военнослужащего — это профессия». Этот факт отмечается в 14 интервью из 22.
Респондент 1 : «Да и думать нечего, конечно, жена военнослужащего — профессия это, да еще и какая. Мы так и говорим: служим с мужем. Все трудности на женских плечах. Он же, когда со службы приходит, ему поговорить хочется, а бывает ведь, чего на службе не скажешь — жене можно. Устает морально, а ты всегда должна быть с улыбкой, ласковая, теплая, а то, если с кислой миной встретишь, тебе от этого лучше уж точно не будет. А еще хозяйство, дети. Ну неужели это не работа?»
Респондент 2 : «Жена у меня молодец: домой приходишь — все чисто, прибрано, ужин всегда готов, пирожками дома пахнет, и детей она у меня любит» .
Респондент 3 : «Семья — это все для солдата. Это тыл, это покой, там всегда ждут, всегда примут» .
Респондент 4 : «Что делать, работа у меня такая: то я на службе, то взвод у меня дома. К нам все идут, мы с женой гостеприимные, всегда гостям рады... ну есть такое дело, выпиваем, бывает и крепко, поругивает, конечно, но она все терпит — любит» .
Выбор этой «профессии» достаточно часто был осознанным (табл. 1, составленная по результатам неформализованных интервью). Наиболее существенным мотивом оказывалась возможность «жить женской жизнью», «не гробить себя на работе». Особенно важно это было для лиц со средним или средним специальным образованием. Однако и многие женщины с высшим образованием отдавали предпочтение «домашней карьере».
На наш взгляд, это связано с коренным противоречием советского гендерного контракта. С одной стороны, всячески поощрялась и идеологически возвышалась роль женщины-матери. Существовала разветвленная система стимулов к деторождению (правительственные награды и льготы многодетным матерям). Репродуктивная функция женщины рассматривалась как важнейшая и наиболее почитаемая 6. С другой — столь же почтенными были и «трудовые подвиги советской женщины». Образы женщины-космонавта, передовика производства, руководителя тоже пропагандировались в средствах массовой информации и в искусстве. Как уже отмечено выше, в результате такого «двойного контракта» на женщину ложилась и двойная нагрузка. Она должна была реализовывать себя и дома, и на работе. Домохозяйство, распределение расходов, забота о питании и одежде, уход за мужем и детьми — все это лежало на женщине. Удвоенная нагрузка делала женщину предельно уязвимой как в плане служебной карьеры, так и в домашней ипостаси. Карьерная само-
Таблица 1
Мотивация выбора супруга-военнослужащего в 1970-1980 годы
|
Мотивация |
Назвали (%)* |
|
Решение материальных проблем (жилье, зарплата) |
25 |
|
Решение статусных проблем (замужество за военным — престижно) |
10 |
|
Возможность уехать (повидать мир, побывать за границей) |
5 |
|
Возможность заниматься только любимым человеком и детьми (не работать) |
35 |
|
Происхождение из офицерской семьи |
10 |
|
Идеальные представления о «мужественности» |
20 |
* Сумма превышает 100%, так как некоторые респонденты назвали более одной мотивации.
реализация приводила к тому, что под ударом оказывалось семейное благополучие. Так возникала сильнейшая депривированность советских женщин, отмечаемая многими исследователями 7. Равноправие оборачивалось утратой женственности. Некоторое исключение составляли жены высокопоставленных государственных служащих, деятелей теневой экономики поздней советской эпохи. Их работа носила номинальный характер, не являлась ценностью. Но такая стратегия сохранения себя как женщины не могла быть массовой. Кроме того, ее легитимность была относительной. Официальная пропаганда не делала различия между женой начальника и любой другой женщиной. Только «должность» офицерской жены позволяла на законном основании посвятить себя дому, всецело отдавать себя детям, сохранить себя как женщину, и только в подобных семьях женщина избавлялась от двойной нагрузки. Не менее значимым было и то обстоятельство, что военнослужащие обладали относительно высоким материальным достатком. Наличие «пайка» или «пайковых выплат» делало даже скромную лейтенантскую зарплату существенно выше, чем аналогичные доходы на гражданской должности; тем более высоки были заработки старших офицеров. В условиях товарного дефицита «паек» часто становился спасением семьи.
Не менее важным мотивом выбора было и решение квартирного вопроса. В поздний советский период строительство жилья активно сворачивалось в большей части страны, и для получения своего отдельного жилища молодым семьям приходилось ехать в малообжитые районы с трудными климатическими условиями. Офицеру, прибывшему к месту службы, квартира полагалась в кратчайшие сроки. В интервью упоминались случаи невыполнения этого условия, но сам тон рассказа позволяет понимать это как исключительное обстоятельство.
Респондент 5 : «Мы, когда на место прибыли, долго скитались по углам сослуживцев мужа, с жильем какая-то проблема была... но мы все понимали, ждали, потом получили» .
Таким образом, материальные проблемы семей военнослужащих достаточно эффективно решались государством. Во всяком случае, более успешно, чем для прочих групп населения.
Несколько менее значимой мотивацией выглядело желание «посмотреть мир». Переезд на новое место жительства для советского человека был достаточно затруднителен. Он был возможен в основном по приглашению производства, по оргнабору, по распределению. В противном случае человек сталкивался с существенными административными препонами. Офицер же и его семья часто меняли место жительства на совершенно официальной основе. Конечно, это мог оказаться не только большой город, но и отдаленный военный гарнизон. Однако в массовом сознании этот момент не фиксировался. Более того, наличие воинских контингентов в «братских социалистических странах» позволяло надеяться на исполнение заветной мечты советского человека — поездку за границу. Еще большие шансы на переезд в столичный город давала успешная военная карьера мужа; в нее и вкладывала супруга все наличные ресурсы. Как правило, лучшим временем супружеской жизни в интервью называется период обучения офицера в Академии Генштаба в Москве.
Респондент 6 : «Самое лучшее время — это когда мы в академии учились. В смысле, когда муж учился. И жилье нормальное было, и вообще — столица» .
Достаточно показательно, что многие респонденты говорят о том, что выбор супруга для женщин мотивирован армейской профессией отца. Как складывались династии офицеров, так формировались и династии офицерских жен. Это обусловлено, на наш взгляд, двумя обстоятельствами. Во-первых, круг общения молодой девушки в военном городке состоял по большей части из молодых офицеров или юношей, собирающихся стать офицерами. Здесь формировался идеал, который и воплощался позднее в образе избранника.
Второе обстоятельство заключается в том, что, по мнению большей части респондентов, «профессией офицерской жены» нужно овладеть. Естественно, что дочь офицера, с детства привыкшая к гарнизонному быту, быстрее училась «профессиональному мастерству». «Профессиональные характеристики», упоминаемые в интервью, мы свели в табл. 2.
Таким образом, условием «счастливой семьи» оказывается не только любовь к супругу, верность ему, умение воспитывать детей, но множество других факторов. Жена должна «вести хозяйство», ждать мужа из наряда, боевого дежурства. Мотив «отлучек» и бесконечного ожидания — один из основных мотивов интервью. Отлучки — это в первую очередь военные обязанности (наряд, боевое дежурство, задание и т. д.) и карьерная необходимость. Но могут быть и иные причины: дружеские встречи, пирушки, баня и т. д. Все
Таблица 2
Характеристики офицерской жены по материалам интервью
«Рыцарский этос» военнослужащего советской/российской армии
Социальные стратегии супруга в офицерской семье детерминировались особым статусом, который мы обозначили термином «рыцарский этос».
Военнослужащие всегда занимали особое место в профессиональной структуре российского общества. От фольклорных сказок о русском солдате до сакрализации в национальном пантеоне образов военачальников XVIII–XIX веков военный – защитник Родины был не просто представителем определенной профессии. Ему всегда выставлялась высшая моральная оценка. История и литература совместными усилиями создавали этот образ 8. Показательно, что военный, переходивший на гражданскую службу, получал чин на класс выше, чем имел на воинской службе. Существенно было и то, что первый офицерский чин давал человеку право на личное дворянство. Таким образом, офицерство и дворянство воспринимались как близкие и взаимосвязанные понятия. Воспроизведение в регулярной армии петровской эпохи внешних европейских форм, привлечение большого числа офицеров-иностранцев привело к заимствованию еще одной, изначально отсутствовавшей в русской культуре корреляции — офицерство и рыцарство. Офицер российской армии мыслился как наследник средневекового европейского рыцарства. Особенно полно эта связка проявила себя в эпоху «веселых цариц» и Павла I 9.
В этот период формируется характерный рыцарский этос военнослужащих. Под ним мы понимаем систему идеологических и социально-поведенческих предпочтений, свойственных рыцарству как особой социальной группе. В структуру собственно рыцарского это-са входили следующие элементы: обязательная праздность; антиутилитаризм; антипрофессионализм; право на политическое господство, право на моральную оценку 10. В революционную эпоху идее рыцарства-офицерства была противопоставлена идея рабочекрестьянской (народной) Красной армии, форма которой отсылала не столько к европейскому рыцарству, сколько к русскому былинному богатырству. Но к 1930–1940-м годам идеи рыцарства актуализируются вновь. Так, апелляция к этой культурной традиции опосредованно прослеживаетcя в том, что красные офицеры именуются не только «детьми Чапаева», но и «внуками Суворова». Немаловажно, что большая часть преподавателей-офицеров, готовивших кадры для РККА, были выпускниками «царских» военных школ. В результате рыцарственность восстанавливается и в РККА, тем более — в советской армии.
В семантику рыцарственности и в рыцарский этос входят не только военные доблести, куртуазное обращение с прекрасным полом, но и влиятельность офицерства как политического класса, определяющего социальную жизнь страны. Если в дореволюционный период такая позиция имела под собой реальные основания и офицерство действительно выступало в этом качестве, то при советской власти ситуация осложняется. Партийная номенклатура оттесняет офицерство-рыцарство от управления страной. Но взамен офицерство получает неподконтрольность обществу. Своя система образования, особые военные суды, особая система финансовой отчетности выводила офицерский корпус из-под контроля общественных институтов. Высокий уровень материального вознаграждения допускал возможность «высокой праздности», оправданной «постоянной боевой готовностью» и особым «рыцарским» статусом.
Как уже сказано, офицеры — это не столько профессионалы, сколько сообщество избранных. Этим они отличались от представителей иных профессий. Военный рассматривался как носитель высших моральных ценностей, имеющий право на нравственное суждение по любому вопросу (таково, например, было восприятие ветеранов афганской войны в 1980-е годы). Огромный военнопромышленный комплекс в масштабах страны и высокие расходы на оборону делали офицерство, отстраненное партийной элитой от политического руководства, как бы «коллективным феодалом», получающим с общества причитающиеся платежи и дань уважения.
Это проявлялось и в приватной сфере. «Рыцарская культура, — пишет М. Оссовская, — не относилась к числу “семейных культур”» 11. Семейная, приватная часть жизни «отдавалась на откуп» государству, нуждалась в его постоянной опеке.
Поскольку «обязательная праздность» и выполнение воинского долга охватывали большую часть времени офицера и создавали материальную основу жизни семьи, то социальный и материальный статус семьи обеспечивался карьерой мужа. Это предопределялось и особым хронотопом, в котором протекала жизнь значительной части семей военнослужащих (военные городки, дома офицерского состава). Круг соседей и круг сослуживцев совпадал, следовательно, свободное время становилось продолжением служебных контактов с той же иерархией и теми же формами общения. Такое положение вещей характерно для военнослужащих отдаленных округов, где возможности проживания вне военного городка редки, а «внешнее» общение сведено к минимуму. Отсутствие родственного общения компенсировалось тем, что обычные нуклеарные семьи военнослужащих объединялись в некое подобие традиционной большой семьи. Здесь круг общения жены составляли такие же офицерские жены. Социальная значимость жены определялась местом супруга в военной иерархии и крайне редко была самостоятельной. Работа для женщины была, скорее, формой досуга, а не сферой самореализации. Самореализация осуществлялась в приватной сфере в форме обслуживания кормильца, воспитания детей, налаживания быта.
Респондент 8 : «...А я и сама все умею, и пол арголитом застелить, и замок врезать в дверь, и мелкую бытовую технику починить, много чего умею. Муж ведь то в наряде, то по службе “вопросы решает”, как он говорит» .
Таким образом, быть офицерской женой оказывалось не так просто. Однако само преодоление трудностей входило исторически в русской культуре в структуру женственности. (Своего рода образец — жены декабристов.) Соответственно те женщины, которые стремились сохранить в себе качество женственности, достаточно часто предпочитали этот путь.
В то же время в офицерской среде формировался тот тип отношений, который позже породил кардинальное противоречие, привел к кризису офицерской семьи и отчасти к кризису офицерства. Ибо здесь доминировал традиционный патриархальный гендерный контракт, при котором мужчина является добытчиком и кормильцем, осуществляет все внешние трансакции, тогда как на долю женщины приходятся трансакции внутрисемейные, домашние.
Подобное распределение ролей выдерживалось достаточно жестко. В силу того, что материальное благополучие «государева человека» зависело только от воли и от материальных ресурсов государства, никакими дополнительными законными ресурсами офицер не обладал и не стремился обладать, пока сохранялось прежнее положение дел.
Жене военнослужащего оставалось обслуживание «кормильца», создание условий для отдыха от ратных трудов. Тяжелые условия жизни в отдаленных округах и гарнизонах компенсировались развитой системой льгот и высоким социальным статусом жены военного.
Респондент 9 : « Когда Петя служил, мы с ним по стране покатались, где только не отдыхали, в СССР льготы хорошие были» .
Респондент 10: «Помню, когда мой Антон Сергеевич очередное повышение по службе получил, унас жизнь лучше стала. Все уважают его в первую очередь и меня тоже. Люди новые в гости стали захаживать, высокие чины и их жены тоже приветливые стали, меня за свою принимать стали... вот и думай: звание — все» .
Практически семья военнослужащего в отдаленном гарнизоне растворялась в армейском быту. Как показали эмпирические исследования, внеслужебное общение воспроизводит служебную вертикаль, а статус жены является отражением статуса мужа.
Респондент 11 : «...А жена и должна быть только для мужа и детей — это армейская традиция, а как иначе» .
Респондент 12: «Муж часто домой сослуживцев приводит и с женами, и так, детей пока нет у нас. Всегда чувствуешь себя как на службе — лишнего не ляпни, будь нарядной, улыбайся, всех угости, с собой гостинцев дай. Это очень ценится, отношения мужа с начальством от этого во многом зависят: сумела ли я всех приветить, хорошая ли я хозяйка».
Респондент 13 : «...Да все вопросы в застолье решаются... мы и семьями часто собираемся — традиция, все мы — одна большая семья» .
Респондент 14 : «Иногда кажется, что работа у мужа бесконечная, то он на работе, то взвод у нас дома» .
Итак, семьи военнослужащих служили идеалом советской семьи, но более других зависели от государственной поддержки. Изменение социальной политики государства и экономических условий именно здесь вызывало наиболее острый кризис семейных отношений. Пропал ключевой момент: государство сняло с себя выполнение маскулинных функций в рамках патриархального гендерного контракта. Эти обязанности перекладываются теперь на мужчину. Но тем самым подрывается основа рыцарского этоса — право на благородную праздность. Исчезает не только рыцарственность супруга, но и особый статус семьи.
Направления трансформации гендерного контракта в офицерских семьях
В результате проведенного эмпирического исследования было установлено, что на трансформацию гендерного контракта в семьях офицеров повлияли следующие факторы.
-
1. Изменение социально-экономических условий гендерного контракта. Государство стремится низвести военную службу с рыцарских высот до уровня обычной профессиональной деятельности. Вместе с тем все ограничения на занятия военнослужащего иными видами деятельности сохраняются. В Федеральном законе «О статусе военнослужащих», в главе II «Права и свободы военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей», в ст. 10, п. 7 говорится: «Военнослужащие не вправе: заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управлении коммерческими организациями, за исключением случаев, когда непосредственное участие в управлении указанными организациями входит в должностные обязанности военнослужащего, а также оказывать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении предпринимательской деятельности, используя свое служебное положение» 12.
-
2. Сокращение реального объема льгот, направленных на семьи военнослужащих. Номинальный объем льгот сократился только в связи с процессом монетизации, но реально выплаты убавлялись на протяжении всего периода реформ. Получение жилья, «пайковых» и иных видов довольствия оказалось уделом офицеров «избранных» частей, а не всего офицерского корпуса.
-
3. Появление в обществе новых гендерных контрактов вместо одного «правильного», существовавшего в советские годы. Возникают новые модели поло-ролевого распределения. Более того, именно эти модели подаются, например, в средствах массовой информации как справедливые и прогрессивные в противовес «архаическим» патриархальным типам. Появление новых сфер занятости (туриндуст-рия, модельный бизнес, шоу-бизнес и т. д.), где женщина может достичь успеха и сама занять доминантные позиции, привели к образованию социально значимого слоя независимых, состоятельных женщин, способных содержать семью.
Иными словами, снимая с себя обязанности по обеспечению офицерской семьи, государство не создает условий для возникновения новых (профессионально-контрактных) отношений в армейской среде.
Респондент 15 : «Когда СССР развалился, мы только жить, можно сказать, начинали. Только от родителей ушли, а тут такое. Подумали с моим, да и решили, что надо делом мне заняться. Благо, родители мои всегда при деньгах были, помогли мне салонный бизнес наладить. Мужа сначала корежило, что я больше него денег несу, говорил, мол, зачем такой мужик в доме нужен, но ничего, я ведь его не бросила, люблю ведь его» .
Респондент 16 : «...Трудно нам с мужем пришлось, очень трудно. Он ведь к армии привык, он у меня в то время, когда Союз пал, командиром был. Зарплата совсем маленькая была, с пайком задержки, дети полуголодные, надеть нечего, пить начал. Ая ведь совсем немного работала, еще до замужества. Пошла торговать на рынок. И водкой торговала, и футболками-тапочками китайскими на морозе минус 30, и пирожками. Много трудностей было, но ничего, выжили и семью сохранили... превратиться из жены командира в рыночную торговку — это больно все-таки» .
В подобной ситуации на долю мужчины остается организация быта и субдоминантное положение в бизнесе супруги.
Возникает матриархальный гендерный контракт, имеющий два варианта. В своем первом варианте он определяется сокращением востребованности квалифицированного мужского труда. Бывшие работники оборонных заводов, научно-исследовательских институтов, теряя престижное место работы, не стремятся к обретению другого, менее престижного. В результате функция материального обеспечения ложится на женщину. При этом сама ситуация осмысляется поначалу как временная, связанная с переходным периодом, мужчина на уровне ментальных стереотипов сохраняет функции «главы семьи», теряя реальные экономические основания для этого.
Респондент 17 : «...Ну и пришлось мне взвалить на себя всю бытовуху, а что делать, он ничего не умеет, кроме как командовать, а возраст-то не тот, чтобы нового мужика искать, так и живем который год» .
Но еще более резким трансформациям подвергается гендерный контракт у успешного мужчины. Возникает и получает легитимизацию «эгалитарный контракт»13, когда все решения супругами принимаются совместно, разделение на «женские» и «мужские» обязанности отсутствует, оба супруга в этом типе брака работают, оказывая друг другу взаимопомощь.
Респондент 18 : «Все поровну: и зарплата, и по дому дела — так проще жить» .
Несколько архаичнее выглядит «спонсорский контракт»14, когда супруг «содержит» жену, воспринимаемую только как сексуальный объект.
Респондент 19 : «Мне такая жизнь нравится, мы домохозяйку завели, она все делает, стирает, прибирает, варит, а я — по салонам, магазинам, выставкам, еще спортом занимаюсь. Я мужу красивая, здоровая и веселая нужна» .
Новые типы гендерных контрактов не полностью вытесняют советский тип семьи, но существенно потрясают его основания, лишают его прежней притягательности. Крайне остро это проявляется в семьях военнослужащих отдаленных округов, для которых система государственной поддержки была особенно значима в силу сложных климатических условий и неразвитости социальной инфраструктуры.
Наиболее болезненно воспринимается и самими военными, и членами их семей утрата особого статуса. Этот момент отметили более 75% респондентов – участников анкетного опроса. Он же отражен во всех неформализованных интервью.
Респондент 20 : «Когда муж служил, нас хоть государство обеспечивало, и нас, и наших детей, а Союз развалился — и все, ушел он из армии, и мы себя уже совершенно по-другому чувствовать стали. Как будто стали просто никем, и все тут» .
Традиционно это трактуется общественным мнением и самими военными как падение патриотизма. Снижение идеологических стимулов обостряет восприятие материальных проблем. Так, в ходе опроса снижение уровня материального обеспечения и нарастание бытовых сложностей отметили более 78% респондентов. Эта же мысль проявилась и в интервью.
Респондент 21 : «Зарплату у них задерживали, с пайковыми вечно перебои были, перебивались с детьми с хлеба на воду, куда не пойди — везде платить надо... холодильник сломался — на ремонт где денег взять? Одному в школу на обеды, второму в институт на обеды вынь да положь» .
Респондент 22 : «...Ну посудите сами, а что оставалось делать? Дети маленькие, жена на производстве травму получила, какой с нее работник? ...Армия армией — семья мне дороже... ушел» .
Но в ходе интервью эта информация не нашла полного подтверждения: «неурядицы», на которые ссылались респонденты, случались и ранее, но резко снизилась готовность их терпеть, рыцарский этос оказался под сомнением.
Трансформация гендерного контракта происходит в зависимости от субъективной значимости для супругов особого статуса офицерства. По результатам интервью были выделены три основные стратегии гендерного поведения в семьях военнослужащих: консервативный, стагнационный и мобилизационный варианты. Если особый статус составляет для семьи сверхценность, то наиболее предпочтительным оказывается консервативный вариант поведения. Он состоит в сохранении прежнего поведения для мужчины, а обязанности, не выполняемые государством, принимает на себя женщина. Тем самым воспроизводится второй вариант матриархальной семьи . Эта стратегия характерна для семей военнослужащих, где стаж совместной жизни и срок службы значительны (около 20 лет).
Если особый статус выступает как сверхценность только для самого военного, но не для его супруги, то реализуется стагнационная стратегия. В ее рамках супруг стремится любыми путями сохранить прежние поведенческие стандарты, а супруга — адаптировать семью к новым социально-экономическим условиям. Это может происхо- дить за счет экономической активности женщины, тогда в семье реализуется матриархальный контракт в первом варианте. Однако здесь «главенство» мужа ставится под сомнение, поскольку статус жены военнослужащего не является определяющей ценностью для нее самой. Наблюдается тенденция к распаду семьи. Еще более явная тенденция к распаду возникает в том случае, если маскулинные обязанности, прежде выполнявшиеся государством, перекладываются на мужчину. Для него это равносильно потере статуса. Подобное развитие событий отмечается в семьях военнослужащих, где значительно различаются возраст или социальное происхождение супругов.
Третья стратегия — мобилизационная — более характерна для офицерских семей с небольшим сроком службы и совместной жизни. Она чаще отмечается во внеармейских силовых структурах, хотя встречается и в армии. Ее реализация связана с принятием супругом забот о восполнении государственной поддержки семьи. Однако, поскольку анализ бюджета времени военнослужащего на основе формализованного опроса показывает его большую занятость, возможности привлечения дополнительных финансовых ресурсов для семьи здесь сокращены. В силу этого здесь наиболее распространены два варианта. Первый — уход из армии, но с сохранением семьи. Второй путь связан с «армейским предпринимательством», порождающим «оборотней в погонах». В этом случае возможно сохранение советского гендерного контракта или преобразование его в спонсорский контракт.
* **
Социальная поддержка семей военнослужащих, как правило, сводится к более или менее развитой системе льгот, направленных на эту категорию лиц. Идеологическая составляющая занимает в этом контексте второстепенное место. Но именно она представляется нам особенно важной. Разрушение особого статуса, порождающего иждивенчество, снижающего адаптивные возможности личности, должно стать основным направлением социальной политики в отношении семей военнослужащих. В этом варианте вместо особого типа семьи появятся семьи обычных профессионалов, востребованных в любой ситуации.
Приложение
Таблица респондентов
|
Номер |
Пол |
Возраст |
Образование |
Социальный статус |
|
1 |
Жен. |
43 |
Высшее |
Жена старшего офицера |
|
2 |
Муж. |
46 |
Высшее |
Старший офицер |
|
3 |
Муж. |
47 |
Высшее |
Старший офицер |
|
4 |
Муж. |
25 |
Высшее |
Старший офицер |
|
5 |
Жен. |
46 |
Высшее |
Жена старшего офицера |
|
6 |
Жен. |
34 |
Высшее |
Жена старшего офицера |
|
7 |
Муж. |
43 |
Высшее |
Старший офицер |
|
8 |
Жен. |
25 |
Высшее |
Жена младшего офицера |
|
9 |
Жен. |
70 |
Среднее специальное |
Вдова старшего офицера |
|
10 |
Жен. |
67 |
Среднее |
Вдова старшего офицера |
|
11 |
Муж. |
24 |
Высшее |
Младший офицер |
|
12 |
Жен. |
21 |
Среднее |
Жена младшего офицера |
|
13 |
Муж. |
37 |
Высшее |
Старший офицер |
|
14 |
Жен. |
23 |
Среднее специальное |
Жена младшего офицера |
|
15 |
Жен. |
40 |
Высшее |
Жена старшего офицера |
|
16 |
Жен. |
50 |
Среднее специальное |
Жена старшего офицера |
|
17 |
Жен. |
54 |
Среднее специальное |
Жена в/с пенсионера |
|
18 |
Жен. |
30 |
Высшее |
Жена старшего офицера |
|
19 |
Жен. |
27 |
Высшее |
Жена старшего офицера |
|
20 |
Жен. |
49 |
Среднее специальное |
Жена старшего офицера в отставке |
|
21 |
Жен. |
47 |
Среднее специальное |
Жена старшего офицера в отставке |
|
22 |
Муж. |
51 |
Высшее |
Старший офицер в отставке |
Список литературы Гендерный контракт в семьях военнослужащих Дальневосточного военного округа
- Темкина А. А., РоткирхА. Советские тендерные контракты и их трансформация в современной России//СОЦИС, 2002. № 11. С. 4-15.
- Здравомыслова Е. А., Темкина А. А. Советский этакратический тендерный порядок//Социальная история -2002.
- Специальный выпуск, посвященный тендерной истории/Отв. ред. Н. Пушкарева. М., РОСПЭН, 2002. С. 14-15.
- Здравомыслова О. М., Арутунян М. Ю. Российская семья на европейском фоне. М., 1998;
- РабжаеваМ. В. Семейная политика в России в XX веке: историко-социальный аспект//Общественные науки и современность, 2004. № 2. С. 166-176;
- Романов П.,ЯрскаяВ.,Ярская-Смирнова Е. Дискурсивное поле демографической политики//Вестник Евразии, 2005. № 3 (29). С. 151-171.
- Справочник по законодательству для офицеров СА и ВМФ. М., Воениздат, 1988. С. 318.
- Измерение поведения экономически активного населения в условиях кризиса на примере мелких предпринимателей и самозанятых. Под. ред. Л. Е. Бляхера. Извл.///WPR, 2006, 14 июня. Доступно на:http://www.auditorium.ru/books/353/gll.pdf.
- Конституция (основной закон) Союза Советских Социалистических Республик. М., 1987 Ч. II. Гл. 6, С. 53.
- Здравомыслова О. М. Семья и общество: гендерное измерение российской трансформации. М., 2003. С. 30.
- Ходасевич В. Державин. М., Книга, 1988. С. 39-42.
- Эйдельман Н. Я. Твой 18 век. М., 1991. С. 73-75.
- Оссовская М. Рыцарь и буржуа. Исследования по истории морали. Извл.///WPR, 2006, 15 мая. Доступно на:http://mx.esc.ru/~assur/ocr/ossowska/ossowska.htm.
- Федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ (ред. от 8 мая 2006 года) «О статусе военнослужащих» (принят ГД ФС РФ 06.03.1998). Извл.///WPR, 2006, 14 июня. Доступно на:http://www.consultant.ru/popular/soldier/35_2.html#pl71.
- Здравомыслова-Стоюнина О. О возможности изменения статуса женщины в семье. Извл.///WPR, 2005, 11 ноября. Доступно на:http://www.owl.ru/win/books/womenl998/21.htm.