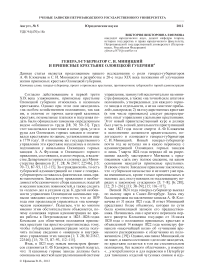Генерал-губернатор С. И. Миницкий и приписные крестьяне Олонецкой губернии
Автор: Ефимова Виктория Викторовна
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Юридические науки
Статья в выпуске: 5 (126), 2012 года.
Бесплатный доступ
Данная статья является продолжением нашего исследования о роли генерал-губернаторов А. Ф. Клокачева и С. И. Миницкого в разработке в 20-е годы XIX века положения об улучшении жизни приписных крестьян Олонецкой губернии.
Генерал-губернатор, проект о приписных крестьянах, противостояние губернской и горной администрации
Короткий адрес: https://sciup.org/14750168
IDR: 14750168 | УДК: 94(470)6189
Текст научной статьи Генерал-губернатор С. И. Миницкий и приписные крестьяне Олонецкой губернии
Согласно действовавшим в первой трети XIX века узаконениям, приписные крестьяне Олонецкой губернии относились к казенным крестьянам. Однако при этом они находились «на особом хозяйственном положении», так как им, в отличие от прочих категорий казенных крестьян, поземельные платежи и подушная подать были официально заменены определенным видом «обязанного» труда [18; 39, 50–51]. Труд этот заключался в заготовке и возке дров, угля и руды для Олонецких горных заводов и оплачивался крестьянам по ценам, установленным еще в 1779 году1. В отношение же государственного управления эти крестьяне находились в полном подчинении у начальника Олонецких горных заводов А. А. Фуллона и Олонецкого горного правления, состоявших, в свою очередь, в ведомстве Департамента горных и соляных дел Министерства финансов [1; Т. 28; № 21617, 22546], [15; 70–73, 87–93, 112–115]. За «гражданской», то есть губернской администрацией во главе с генерал-губернатором оставалось фактически лишь право напоминать Заводскому правлению о необходимости бездоимочного сбора казенных податей и несения земских повинностей, а также следить за «ходом» дел в уездном суде. К другой особенности управления Олонецкими казенными горными заводами следует отнести то, что до 1839 года они продолжали управляться «на коммерческом основании»2. Полагаем, что во многом именно этим обстоятельством объясняется, почему олонецкая горная администрация во время работы в Петрозаводске в 1825–1826 годах Комиссии для облегчения положения приписных крестьян так яростно сопротивлялась тому, чтобы губернская администрация могла получить полные сведения о «внешнем и внутреннем» управлении этих заводов [1; Т. 28; № 21617, 22546]; [15; 70–73, 87–93, 112–115].
Итак, в 1823 году новым министром финансов становится Е. Ф. Канкрин, который полагал, что: 1) казенные горные заводы должны быть основаны на жесткой централизованной системе управления, замкнутой исключительно на министре финансов, а также «на точной силе штатов и положений», утвержденных для каждого горного завода в отдельности, а не на «системе прибылей», как прежде; 2) на государственных крестьян (в том числе приписных) следует распространить опыт управления удельными крестьянами. Этот новый правительственный курс и должен был учесть в своей деятельности приступивший в мае 1823 года после смерти А. Ф. Клокачева к исполнению должности архангельского, вологодского и олонецкого генерал-губернатора С. И. Миницкий. Новый генерал-губернатор почти год не вступал ни в какую переписку с администрацией Олонецких горных заводов и лишь 7 марта 1824 года передал ей на разрешение жалобу мастерового Матвеева с предписанием «дать ему полное сведение, на каком основании находятся приписные крестьяне». В своем ответе Заводское правление заключило, что «губернское начальство и не имеет уже права вмешиваться, кроме только криминальных и исковых дел, поступающих по надлежащему порядку к законному суждению» [5; 7–8]; [6; 281], [12; 211–216]; [13; 38–39]; [15; 116–117].
Весной 1824 года генерал-губернатор выехал по вызову царя в Санкт-Петербург. Здесь ему была передана на заключение записка А. Ф. Кло-качева от 31 июля 1821 года. В ответ Миницкий представил более объемную, которая по сути была компиляцией записок его предшественника. Начиналась она с краткого пересказа первого рапорта Клокачева государю от 16 июля 1820 года о положении приписных крестьян и объявленной 14 января 1822 года министру финансов «высочайшей воли» об «учинении временного распоряжения» к облегчению их положения (см. [19]). Однако, как писал Миницкий, он не знает, в каком состоянии «дело сие находится, но крестьяне остаются в том же стеснительном положении, без всякого облегчения», а именно: «…употребляются и для перевозки в Петербург для тамошних изделий чугунных свинок и иду- щих изделий в частную торговлю и… исправляют тягостные и разорительные уроки не столько для доставленных в казну Военно-сухопутного и Морского ведомства артиллерийских орудий и снарядов, сколько для частных изделий, которые продают в публику или вырабатываются на заводах за вольные цены. Но справедливо ли, – восклицал Миницкий, – чтобы государственные крестьяне Петрозаводского уезда более 20 тысяч душ служили сему заводу для его частных работ и претерпевали тягость и стеснение, коими никто из крестьян не токмо в той же Олонецкой губернии, но нигде конечно не подвержены». В связи с этим он предлагал: 1) определить «ежегодную потребность артиллерийских снарядов по Военно-сухопутному и Морскому ведомству и исчислить соответственно этому необходимое количество уроков»; 2) «постановить правилом, чтобы на те изделия, кои продаются с пользою для заводов по вольным ценам заводское начальство получало руду, дрова и уголь вольными людьми»; 3) «по мере казенных нарядов (не включая изделий на вольную продажу) определить штатом, сколько без излишества нужно содержать при заводе мастеровых и чиновников, а также крестьян для добывания и возки руды, угля и дров», и освободить их «от платежа государственных податей и от рекрутства, но дорожные участки и прочие земские повинности обязаны исправлять по-прежнему». В конце записки генерал-губернатор предлагал сделать «о сих крестьянах ясное положение, дабы они защищены были от всяких угнетений, и для сего принять в руководство управление о удельных крестьянах» [3; 2, 18]; [4; 3–4], [15; 127–134].
7 августа «по высочайшему повелению» граф Аракчеев внес в Комитет министров записку Ми-ницкого с мнением на нее министра финансов, который предлагал назначить особую Комиссию, которая бы «исследовала оное прежде на месте», а потом представила свои предложения на рассмотрение Комитета министров. Комиссию предполагалось составить на паритетных началах: по одному чиновнику от министерств внутренних дел и финансов, а также от Правления Олонецких заводов и генерал-губернатора. Комитет министров, согласившись, указал, чтобы Комиссия прежде всего «представила немедленно… свое заключение, какое по местным соображениям может быть учинено распоряжение к облегчению сих крестьян хотя временно, доколе дальнейшие соображения о самих заводах будут приведены к окончанию». Это решение было утверждено царем и сообщено Миницкому 4 марта 1825 года. В апреле Миницкий сообщает министру об избранной кандидатуре – советнике Олонецкого губернского правления Федоре Борисове, которому пересылает список с Инструкцией, составленной министром финансов для действия Комиссии, а губернатору предлагает рекомендовать Борисову «изыскать все средства к ясному раскрытию всех действительно существенных угнетений от самого Заводского ведомства» и сообщать ему о действии Комиссии через каждые 2 недели «с присовокуплением с донесений комиссии министру копий» [7; 197]; [8; 250]; [9; 338], [15; 311–324, 304–309, 841].
Внимательно проанализировав текст Инструкции, мы не можем согласиться с Я. А. Ба-лагуровым, утверждавшим, что министр финансов, «по существу, требовал от комиссии заняться выискиванием материалов, подтверждающих “благосостояние” олонецких приписных крестьян, а если из этого ничего не получится, то бедственное положение населения отнести за счет сурового климата, недостаточного трудолюбия самих крестьян и т. д.» [17; 68]. Наоборот, Канкрин перечислил в ней все предположения генерал-губернатора Клокачева и горного начальника Фуллона об улучшении положения приписных крестьян и предоставил Комиссии право свободно высказать свое мнение. Заметим лишь, что поставленная перед Комиссией задача была изначально весьма объемной, а каждое предположение было сопровождено «возражением» [15; 315–324].
Я. А. Балагуров в целом достаточно объективно изложил ход работы Комиссии, поэтому свою задачу мы видим лишь в выяснении позиции С. И. Миницкого. Генерал-губернатор сразу же встал на сторону олонецкой губернской администрации и своего представителя в ней – титулярного советника Федора Борисова. Напряжение между «горными членами» (Амстронгом и Гудимом) и «гражданскими членами» (Борисовым и Грузинским) нарастало от заседания к заседанию. 7 сентября 1825 года Борисов в рапорте генерал-губернатору так объяснял возникшие разногласия между членами Комиссии: «горные члены» настаивают на том, что Комиссия эта «не есть следственная, а для сделания положения к облегчению крестьян. Я же по точным словам Положения Комитета министров и Инструкции полагаю, что все действия Комиссии должны стремиться к раскрытию той завесы, которая поставлена г. Фуллоном пред глазами Правительства, якобы крестьяне не бедны, но богаты и не стеснены, но облагоденствованы его Управлением, как он представил дело на донесение Алексея Федотовича (Клокачева. – В. Е. ) к государю… но ныне открывается почти совершенно ложным». В конце Борисов просил генерал-губернатора «не лишить» его своим «начальственным защи-щением», ибо «всегда неприятностям подвергнуться могу». В ответ Миницкий предложил Борисову руководствоваться в порученном ему деле «истинною справедливостью», и «тогда может быть уверен, что Бог и Государь будет к нему милостивы», а также, чтобы Комиссия вошла во все подробности, как предписано Инструкцией,
«что подтверждено мне министром финансов» [9; 428].
Суть других разногласий между «гражданскими» и «горными» членами можно кратко свести к следующему: позволить ли Комиссии получать сведения о хозяйственном управлении заводов, а также исследовать на местах действительное положение крестьян, особенно по жалобе крестьянина Якушева, который как самый активный жалобщик подвергся даже аресту (см. [17; 71–73]). Губернатор в своих рапортах 5 и 12 октября 1825 года, сообщив С. И. Миницкому об этом, заключил: «Из сего Ваше Высокопревосходительство видеть может… какие меры к закрытию притеснений принимает заводское правление... Над Якушевым чинится следствие, чтоб устрашить прочих!» Генерал-губернатор отреагировал весьма энергично: 30 октября он писал Е. Ф. Кан-крину, что действия Комиссии «должны касаться не токмо до нынешнего управления, но и за прошедшее время, особенно же об уроках Жданова при бытности покойного управляющего заводом Амстронга, сын которого ныне находится управляющим… и назначен членом Комиссии, голос которого не может быть беспристрастным»; что следствие по Якушеву должно быть проведено Комиссией, а не заводским начальством; что «споры и несогласие во мнении», возникшие между членами Комиссии, «ни к чему доброму не ведут». Поэтому Миницкий предлагал министру заменить «горных членов» другими, которые «открыли бы самую истину и тем исполнили Высочайшую волю», а саму Комиссию подчинить «председательству» губернатора Фан-дер-Флита, который «по недавнему вступлению в должность не мог подать Заводскому Правлению причин быть им недовольным» [9; 466, 483–484], [15; 501–511, 519–521, 545–554].
27 ноября 1825 года Канкрин ответил Ми-ницкому, что обстоятельства, представленные им в письме, уже были рассмотрены в его министерстве и с согласия министра внутренних дел от него уже «преподаны» Комиссии «особые дополнительные правила», которые, как представлялось министру, уже не будут порождать разногласий между членами3. Следствие же по Якушеву министр разрешал перерасследовать земской полиции при депутате со стороны заводского начальства, но при этом не считал необходимым определять особого председателя в Комиссию «потому более, что все действия и поступки ея в Петрозаводске не могут быть решительными, но должны поступить впоследствии сюда (в Санкт-Петербург. – В. Е. ) на дальнейшее соображение» [10; 536], [15; 683–684, 689, 842].
В своих рапортах от 21 декабря 1825 года и 12 января 1826 года Борисов представил губернатору объяснение причин, побуждающих его к тому, чтобы продолжить требовать от заводского правления разные сведения, в том числе о его хозяйственном управлении. Губернатор, препровождая их к генерал-губернатору, полагал, что Борисов это делает исключительно в целях раскрытия настоящего положения приписных крестьян. Резолюция Миницкого гласила: «…выбрав из списка советника Борисова все уважения против Комиссии, чтоб мог министр финансов удостовериться, что советник Борисов и Грузинский содействуют раскрытию и облегчению крестьян, но Гудим и Амстронг препятствуют излишней перепискою» [15; 822].
18 февраля 1826 года Миницкий представил министру финансов отношение, которое является кульминацией в противостоянии губернской и горной администрациями по поводу хода дел в Комиссии. В нем генерал-губернатор просил министра «довести» до Комитета министров как о его предложении от 30 октября 1825 года, так и рапортах Борисова и «исходатайствовать Высочайшее повеление»: 1) Назначить олонецкого губернатора председателем Комиссии. 2) «…Предоставить Комиссии обозреть дела по заводскому правлению, не исключая и относительно к действию заводов и открыть равномерно хозяйственное по ея и по другим частям управление, а наипаче по денежным оборотам, ибо известно, что на действие заводов издержаны миллионы казенных сумм, не включая работ, отправляемых 20 тысячами душ казенных крестьян… управление которыми тоже бы должно проверить...» 3) Обязать заводское правление и горного начальника удовлетворять «без медлительности» все законные требования Комиссии. 4) «Земскую полицию в Петрозаводском уезде и над заводскими крестьянами ныне же изъять из зависимости Правления Олонецких заводов, ибо в одном уезде не совместно быти двум полициям». Эта мера, считал Миницкий, будет также способствовать тому, что крестьяне перестанут молчать «об обидах своих» перед Комиссией и начнут исправно исполнять уроки, так как «невозможно уже будет горным чиновникам обременять казенных крестьян излишними работами и противузаконными сборами. Полицию же постановить… как в удельном имении, чтоб земский суд по делам заводских крестьян действовал бы при депутате со стороны заводской». О своих предложениях Миницкий известил и министра внутренних дел, прося его «оказать покровительство» [15; 849–859]. Ответ министра последовал 26 апреля. В нем Канкрин, обвинив Борисова и Грузинского в пристрастных действиях, высказался по поводу «предложений» Миницкого. Так, например, оценивая предложение генерал-губернатора о председательстве губернатора в Комиссии, министр резонно замечал, что это едва ли «прекратит разногласия, а напротив, отвлечет губернатора от прочих дел». По поводу же разрешения «обозреть дела» по заводскому правлению министр считал, что это
«не было бы согласным с целью Комиссии и к тому же заводы обязаны отчетностью своему начальству». И наконец, он выступил против перевода в компетенцию земской полиции заводских крестьян, так как это не только противоречило существующим узаконениям, но и «отнюдь не обещало то», что земская полиция будет лучше управлять этими крестьянами. Далее Канкрин писал: «Учитывая, что продолжение дел Комиссии от затейливых их голосов некоторых членов наконец даст повод к беспокойствам между крестьянами, кои уже возникли на многих других заводах, я прошу Ваше Превосходительство подтвердить членам Комиссии Гражданского ведомства содействовать успешному выполнению возложенных на оную обязанностей». В силу всех этих обстоятельств, заключал министр, он не нашел возможным представить предложения генерал-губернатора на рассмотрение Комитета министров [15; 709–719, 865–867].
Но С. И. Миницкий не отступил, а изменил тактику, предложив Борисову «о всех же тех предметах, где нужно будет раскрыть истину, не споря на словах относиться куда следует бумагою» [15; 867]. Исполняя это указание, Борисов «молчал до окончания Комиссии», так он сам написал в своем итоговом рапорте генерал-губернатору 22 ноября 1827 года. Однако 16 июля 1826 года Канкрин, не выдержав даже полугода от срока, назначенного Комиссии, сообщил Ми-ницкому о сделанном по его представлению и высочайше одобренном положении Комитета министров о прекращении заседаний Комиссии в течение месяца. Среди причин преждевременного закрытия министр указал «многомедлен-ность действий учрежденной Комиссии и возникновение беспорядков между крестьянами и мастеровыми». Всем членам Комиссии, кроме управляющего Александровским заводом Ам-стронга, предписывалось после закрытия занятий в Петрозаводске «немедленно отправиться в Санкт-Петербург со всеми собранными материалами… чтоб здесь уже закончить на нее возложенное дело под председательством особо назначенного чиновника со стороны Министерства финансов». В напутствие Борисову Миниц-кий выразил надежду, что он и там «с той же справедливой деятельностью будет исполнять свою обязанность, как и до сего времени, чего я более желаю и уверен, труды его не останутся без всемилостивейшего Государя внимания» [15; 1397–1409]. Чуть позже губернатор переслал генерал-губернатору составленную Борисовым перед отъездом записку о стесненном положении приписных крестьян, в которой тот указал узаконения и все случаи, где сделаны отступления. Миницкий распорядился приготовить на ее основе краткую записку, из которой, как он написал, было бы видно, «в каком положении крестьяне сии? И в чем заключается их стеснение?»
[15; 1624–1644]. Это доказывает, что С. И. Ми-ницкий не оставил надежды на успех своих инициатив. Вскоре у него появился повод так думать. 28 ноября 1826 года Николай I утвердил положение Комитета министров «О правилах управления Олонецких и Луганского заводов крестьян». Из него следовало, что царь, соглашаясь с мнением Миницкого, поддержанного министром внутренних дел, приказал хозяйственное управление оставить за заводским начальством, но надзор «за общей безопасностью и тишиною, а равно и производство следствий передать земской полиции; при производстве следствия должны присутствовать депутаты от заводского начальства» [2; Т. 1; № 652], [20; Т. 2; Ч. 2; 215–216]4.
С 16 сентября 1826 года по 6 октября 1827 года Комиссия работала в Санкт-Петербурге под председательством действительного статского советника Ломбри. Влиять на ход ее работы генерал-губернатор Миницкий уже не мог. Вернувшийся в Петрозаводск 22 ноября Ф. Борисов представил ему итоговый рапорт о действиях Комиссии и своих собственных5. Позиция Ми-ницкого ясно видна из резолюции: «в его рапорте все доказывает действительное стеснение приписных крестьян», а советники Борисов и Грузинский сделали все, что было в их силах, для доказательства этого, поэтому «мне было весьма прискорбно видеть» заключение министра финансов о них, и надо бы войти с ходатайством о награждении этих чиновников «как более других исполнявших в точности Инструкцию и наши поручения» и наградить Борисова Владимирским крестом, а Грузинского представить по начальству. «Ежели эти чиновники не будут награждены, тогда невозможно будет <открывать?> истину против сильных»6.
Основные «предложения» Комиссии были кратко изложены в записке министра финансов, которая была заслушана Комитетом министров на заседании 13 марта 1828 года. В целом можно согласиться с мнением Я. А. Балагурова о том, что Комиссия никаких радикальных мер к решению вопроса «о повышении благосостояния» приписных крестьян не предложила. И это несмотря на то, что Комиссия представила на рассмотрение Комитета весьма объемный, состоявший из 12 глав и 371 параграфа, проект Положения «как управлять заводскими крестьянами на будущее время» [15; 1725–1753]. Однако считаем необходимым более точно, нежели это сделал Я. А. Балагуров, рассмотреть мнение Канкрина, так как благодаря ему виден итог многолетнего противостояния между олонецкими губернской и горной администрациями. Министр начал с того, что «ничего столь бы не желал, как совершенного освобождения приписных к Олонецким заводам крестьян от заводских работ», но этому препятствуют два обстоятельства. Во-первых, «малое население Олонецкого края», из-за чего Олонецкие заводы не смогут за умеренную плату приобрести нужное число вольнонаемных. Во-вторых, военные заказы требуют, «чтоб заводы сии были совершенно обеспечены в достоверном получении тех припасов, кои им ныне доставляют приписные крестьяне». Институт непременных работников министром был отвергнут из-за невозможности наделить их землей близ заводов и надзирать за ними во время работ на удаленных рудниках и дровосеках. Мнение же Борисова о полной замене принудительного труда крестьян на вольнонаемный, считал Канкрин, принять нельзя, «ибо означенные подряды относятся только к таким работам, которые за выполнением уже всех обязанностей приписных крестьян признаны нужными». Для их «облегчения» министр предлагал: 1) плакатные деньги выдавать сразу же по исполнении работ с расписками, 2) уроки распределять лишь на половину ревизских душ и расписывать только «на годных по летам работников с освобождением увечных и должностных», 3) размер самого «плаката» пересчитать в соответствии с текущим курсом серебряного рубля, то есть увеличить с 1 руб. 70 коп. до 6 руб. 30 коп. ассигнациями, 4) несколько увеличить «проходные деньги», 5) всю необходимую для этого «прибавочную» сумму отнести на счет казны. В связи с увеличением стоимости урока Канкрин также считал, что на этих крестьян не надо распространять действие указа 9 сентября 1820 года о замене рекрутского набора денежным сбором. Приводить в действие «Проект», составленный Комиссией, министр также не видел необходимости, так как Положением от 9 ноября 1826 года на олонецких приписных крестьян распространялось «во всех частях Положение о казенных крестьянах Санкт-Петербургской и Псковской губерний с приспособлением оного к Горному Начальству» (казенных же крестьян этих губерний в виде эксперимента предполагалось уравнять с удельными. – В. Е.). Жалобы крестьян, поданные в Комиссию, в том числе и по «делу Жданова», министр полагал «для изыскания строгой истины» рассмотреть в Департаменте горных и соляных дел, а производство по «делу Якушева» прекратить. Комитет министров нашел, что предложения министра «заключают в себе» существенные облегчения для крестьян, и 3 апреля 1828 года царь их утвердил [2; Т. 3; № 1916].
Нам представляется, что Я. А. Балагуров излишне критично оценил это решение верховной власти. Во-первых, потому, что принятые меры заявлялись как «временные облегчения», во-вторых, автор не посчитал важным акцентировать внимание на том, что реформа в олонецкой приписной деревне позже все-таки началась7. Однако реализация этого Положения происходила уже без всякого участия генерал-губернатора.
Таким образом, генерал-губернатор С. И. Ми-ницкий поддержал все инициативы в отношении улучшения положения олонецких приписных крестьян, с которыми «вошел» к Александру I его предшественник А. Ф. Клокачев. Главными из них являются: уравнение приписных крестьян в правовом статусе с удельными, подчинение их власти общей полиции, освобождение от рекрутства и, наконец, замена принудительного труда вольнонаемным или трудом непременных работников, если это невозможно, то увеличить плату за уроки. Правительство поддержало лишь некоторые. Однако полагаем, что если бы Ми-ницкий не продолжил настаивать на необходимости подчинения приписных крестьян полицейской власти Олонецкой гражданской администрации, полагая, что эта мера облегчит их положение, то она не нашли бы поддержки у Николая I, сделавшего в этом случае исключение из правил. Эксперименты же с заменой труда приписных крестьян вольным наймом, а рекрутства – денежным сбором были тогда, как нам представляется, в принципе невозможны. Постоянные войны требовали бесперебойной работы казенных горных заводов и поставки рекрутов в армию. Однако в рамки проводимой Николаем I внутренней политики, допускавшей лишь частичные и осторожные изменения в существующей системе управления и хозяйства, вполне укладывалось предложение генерал-губернаторов Клокачева и Миницкого о необходимости увеличения оплаты за уроки, выполняемые приписными крестьянами для Олонецких горных заводов. Безусловно, прав Я. А. Балагуров, полагавший, что повышение этой платы было минимальным, однако и таковое едва ли могло произойти, если бы многочисленные просьбы крестьян об этом не были так энергично поддержаны сначала А. Ф. Клокачевым, а затем С. И. Миницким.
* Cтатья написана в рамках гранта № 12-11-10001 Региональный конкурс «Русский Север: история, современность, перспективы» и при финансовой поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности.
Список литературы Генерал-губернатор С. И. Миницкий и приписные крестьяне Олонецкой губернии
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1: В 45 т. СПб., 1830.
- Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2: В 55 т. СПб., 1830-1884.
- Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1409. Собственная Его Императорского Величества канцелярия. Оп. 1. Д. 4177.
- РГИА. Ф. 1286. Департамент полиции исполнительной. Оп. 2. Д. 4849.
- Государственный архив Архангельской области (ГА АО). Ф. 1367. Канцелярия генерал-губернатора Архангельского, Вологодского и Олонецкого. Оп. 1. Д. 191.
- ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 262.
- ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329а.
- ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329б.
- ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329в
- ГА АО. Ф. 1367. Оп. 1. Д. 329д.
- Национальный архив Республики Карелия (НА РК). Ф. 37. Олонецкое горное правление. Оп. 1. Д. 304.
- НА РК. Ф. 37. Оп. 5. Д. 1001.
- НА РК. Ф. 37. Оп. 5. Д. 1247.
- НА РК. Ф. 37. Оп. 5. Д. 1638.
- НА РК. Ф. 37. Оп. 8. Д. 534.
- Балагуров Я. А. Олонецкие горные заводы в дореформенный период. Петрозаводск, 1958. 211 с.
- Балагуров Я. А. Приписные крестьяне Карелии в XVIII-XIX вв. Петрозаводск, 1962. 352 с.
- Дунаева Н. В. Между сословной и гражданской свободой: эволюция правосубъектности свободных сельских обывателей Российской империи в XIX в. СПб.: Изд-во СЗАГС, 2010. 475 с.
- Ефимова В. В. Генерал-губернатор А. Ф. Клокачев и приписные крестьяне Олонецкой губернии//Державинский сборник-2010. Петрозаводск, 2010. С. 78-90.
- Исторический обзор деятельности Комитета министров: В 5 т./Сост. С. М. Середонин. СПб., 1902.