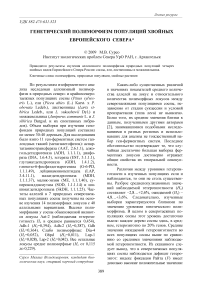Генетический полиморфизм популяций хвойных Европейского Севера
Автор: Сурсо М.В.
Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc
Рубрика: Лесные ресурсы
Статья в выпуске: 1-3 т.11, 2009 года.
Бесплатный доступ
Приводятся результаты изучения аллозимного полиморфизма природных популяций четырех хвойных видов Европейского Севера России: сосны, ели, лиственницы и можжевельника.
Полиморфизм, природные популяции, хвойные растения
Короткий адрес: https://sciup.org/148198352
IDR: 148198352 | УДК: 582.475:631.523
Текст научной статьи Генетический полиморфизм популяций хвойных Европейского Севера
По результатам изоферментного анализа исследован аллозимный полиморфизм в природных северо- и крайнесеверотаежных популяциях сосны ( Pinus sylves-tris L.), ели ( Picea abies (L.) Karst. x P. obovata Ledeb.), лиственницы ( Larix si-birica Ledeb., или L. sukachewii Dyl.) и можжевельника ( Juniperus communis L. и J. sibirica Burgsd. и их спонтанных гибридов). Объем выборки при изучении генофондов природных популяций составлял не менее 30-40 деревьев. Для исследования было взято 11 ген-ферментных систем гаплоидных тканей (мегагаметофитов): аспартатаминотрансфераза (AAT, 2.6.1.1), алкогольдегидрогеназа (ADH, 1.1.1.1), диафо-раза (DIA, 1.6.4.3), эстераза (EST, 3.1.1.1), глутаматдегидрогеназа (GDH, 1.4.1.2), глюкозо-6-фосфатдегидрогеназа (G-6-PD, 1.1.1.49), лейцинаминопептидаза (LAP, 3.4.11.1), малатдегидрогеназа (MDH, 1.1.1.37), малик-энзим (ME, 1.1.1.40), су-пероксиддисмутаза (SOD, 1.1.1.14) и ши-киматдегидрогеназа (SkDH, 1.1.1.25). Частоты аллелей в 7 природных северотаежных популяциях сосны получены на основе изучения 14 полиморфных локусов с 40 аллельными вариантами. Высоко полиморфными у сосны обыкновенной являются локусы Aat-2 (наблюдаемая гетерозиготность H o в среднем равняется 0,454), Adh-1 ( H o =0,394), Adh-2 ( H o =0,387), Gdh ( H o =0,364). Слабо полиморфные: Dia-4 ( H o =0,052), G6pd ( H o =0,011), Lap-1 ( H o =0,028), Lap-2 ( H o =0,042). Все остальные локусы средне полиморфные ( H o от 0,115 до 0,229).
Сурсо Михаил Вольдемарович, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник
Каких-либо существенных различий в значениях показателей среднего количества аллелей на локус и относительного количества полиморфных локусов между северотаежными популяциями сосны, независимо от стадии сукцессии и условий произрастания (типа леса) не выявлено. Более того, их средние значения близки к данным, полученными другими авторами [2], занимавшимися подобными исследованиями в разных регионах и использовавших для анализа не тождественный набор ген-ферментных систем. Последнее обстоятельство подтверждает то, что случайная достаточно большая выборка ферментных локусов достоверно отражает общие свойства их генеральной совокупности.
Различия между уровнями гетерозиготности в изученных популяциях если и наблюдаются, то они не столь существенны. Разброс среднепопуляционных значений наблюдаемой гетерозиготности ( H o ) составляет –2,8…+2,6%, ожидаемой ( H e ) – 4,8…+3,6%. Следовательно, изученные выборки характеризуются близкими по значению уровнями генетического полиморфизма. В целом в северотаежных популяциях сосны этот уровень достаточно высок: каждое дерево сосны здесь, в среднем, гетерозиготно по 20% генов. Средние значения ожидаемой гетерозиготности во всех популяциях сосны выше по сравнению со средними значениями наблюдаемой гетерозиготности. Из сказанного следует вывод, что в северотаежных популяциях сосны наблюдается дефицит гетерозигот: индекс фиксации Райта ( F ) имеет довольно высокие положительные значения:
от +0,079 до +0,259. Дефицит гетерозигот может быть, хотя и не всегда, обусловлен инбридингом, который и оценивается при помощи данного коэффициента.
Некоторые авторы указывают на дефицит гетерозигот у сосен в ранних возрастных группах и увеличение уровня гетерозиготности во взрослой части насаждений. Так, для сосны обыкновенной на Южном Урале соотношение H o и H e меняется от дефицита гетерозигот у зародышей (индекс фиксации Райта F =+0,143) до их эксцесса у материнских деревьев ( F =– 0,123) (Старова и др., 1990). Аналогичную картину наблюдали К.В. Крутовский с со-авт. [4] у Pinus sibirica Du Tour. В качестве вероятной причины дефицита гетерозигот у зародышей и молодого поколения эти авторы называют инбридинг, крайним проявлением которого является самоопыление, происходящее у хвойных, по разным оценкам, с частотой 10-20%. В этом случае избыток гетерозигот, который наблюдается у хвойных во взрослой части популяции, достигается за счет элиминации той части особей в этой популяции, которые имеют наименьшую гетерозиготность. Г.Г. Гончаренко с соавт. [2] говорят о том, что популяции сосны обыкновенной в Восточной Европе и Восточной Сибири находятся в состоянии генетического равновесия, поскольку значения показателей H o и H e здесь, по их данным, практически совпадают. Аналогичное совпадение обнаружено и в шотландских популяциях Pinus sylvestris L. [7]. Вместе с тем в калифорнийских популяциях Pinus radiata D.Don. при их высоком уровне полиморфизма во всех случаях наблюдается дефицит гетерозигот ( F =+0,024…+0,174) [10]. У P. radiata , интродуцированной в Австралии, при относительно невысоком уровне полиморфизма также отмечен небольшой дефицит гетерозигот [8].
Среднее значение показателя FST, определяющего подразделенность, относительно невелико и равняется 0,032. Следовательно, внутрипопуляционная составляющая генетической изменчивости сосны равна 96,8%, тогда как ее межпопуляционная составляющая – всего 3,2%. Таким образом, несмотря на довольно высокий уровень генетического полиморфизма и географическую удаленность друг от друга (т.н. генетическую изоляцию расстоянием) северотаежные популяции сосны в целом генетически однородны. Среднее значение величины генного потока Nem в популяциях сосны равно 7,57. Это означает, что в субпопуляции с эффективным размером Ne 8 деревьев имеют привнесенные гены, или, другими словами, интенсивность обмена генами в северотаежных популяциях сосны составляет, в среднем, 8 мигрантов за поколение. Коэффициенты генетических дистанций [9] между географически изолированными северотаежными популяциями сосны не превышают 0,015, в среднем они составляют 0,010. Это говорит о том, что все изученные популяции сосны генетически близки между собой.
Аллозимный полиморфизм изучен в 8 коренных северотаежных популяциях ели. Для анализа использовано 10 полиморфных локусов с 38 аллельными вариантами. Относительно более высоким полиморфизмом у ели отличаются локусы Gdh (фактическая гетерозиготность H o в среднем равна 0,331), G6pd ( H o =0,264), Lap-1 ( H o =0,213), Lap-2 ( H o =0,212), Skdh-2 ( H o =0,221). Слабо полиморфными являются локусы Mdh-1 ( H o =0,023) и Me ( H o =0,062). Средне полиморфные: Adh-1 ( H o =0,079), Adh-2 ( H o =0,164), Est-2 ( H o =0,142). Несмотря на относительно более высокое аллельное разнообразие (в среднем 2,20 аллельных варианта на локус) ель, по сравнению с сосной отличается несколько меньшим уровнем генетического полиморфизма. Средние значения доли полиморфных локусов ( P 95 =0,638, P 99 =0,800) и наблюдаемой гетерозиготности ( H o =0,171) в северотаежных популяциях ели близки к аналогичным показателям, приведенным в [1] для Picea abies (L.) Karst. и P. obovata Ledeb.
Различия между уровнями гетерозиготности в изученных популяциях ели более существенны по сравнению с сосной. Отклонения среднепопуляционных значений наблюдаемой гетерозиготности ( H o ) от среднего значения для всех популяций составляет –4,5…+11,0%, теоретически ожидаемой гетерозиготности ( H e ) –
6,0…+8,5%. Вероятно популяции ели генетически более обособлены, поскольку обмен мужскими гаметами между ними менее эффективен. В целом уровень генетического полиморфизма в северотаежных популяциях ели, так же как и в популяциях сосны довольно высокий: в среднем каждое дерево ели гетерозиготно по 17% генов.
Поскольку во всех изученных популяциях ели средние значения наблюдаемой гетерозиготности ниже теоретически ожидаемых, то и индекс фиксации Райта ( F ) также во всех случаях имеет положительное значение. Дефицит гетерозигот в популяциях ели в большинстве случаев довольно существенный и, в целом, выше по сравнению с популяциями сосны. Лишь одна популяция ели из восьми изученных приближается по этому показателю к равновесному состоянию ( F =+0,013). Дефицит гетерозигот (при H o от 0,232 до 0,295 F =–0,043…+0,103) отмечен также в ряде популяций Picea glauca (Moench.) Voss на Аляске [5]. Среднее значение показателя F ST равно 0,062, т.е. на долю внутрипопу-ляционной изменчивости у ели приходится 93,8%, на долю межпопуляционной изменчивости – 6,2%. Средняя величина генного потока N e m в северотаежных популяциях ели составляет 3,78. Таким образом, интенсивность обмена генетической информацией здесь не превышает 4-х мигрантов за поколение. Значения коэффициентов генетических дистанций [9] между северотаежными популяциями ели составляют, в среднем, 0,022. Это говорит о том, что генетические различия между ними могут быть значительно более существенными, чем между популяциями сосны. Следовательно, северотаежные популяции ели характеризуются некоторой генетической неоднородностью.
Генетический полиморфизм по алло-зимным локусам изучен в 5 коренных се-веро- и крайнесеверотаежных популяциях лиственницы. Частота встречаемости аллелей оценивалась по 10 полиморфным локусам, несущих 24 аллельных варианта. У лиственницы идентифицировано всего 2 высоко полиморфных локуса: Aat-1 (средняя наблюдаемая гетерозиготность
H o =0,360) и Skdh-2 ( H o =0,301). 2 локуса: Est-3 ( H o =0,154) и Lap-2 ( H o =0,098) являются средне полиморфными. Остальные локусы – средне- и слабо полиморфные (значения H o составляют от 0,004 до 0,037). Относительно низкий уровень генетического полиморфизма свойственен, вероятно, и другим видам рода Larix . Так, в 19 природных популяциях L. occidentalis Nutt. только 7 из 23 изученных изофер-ментных локусов были полиморфными [6].
Все исследованные северо- и крайнесеверотаежные популяции лиственницы также имеют низкий уровень генетического полиморфизма. Среднее число аллелей на локус варьирует от 1,40 до 1,80. Средние значения относительного количества полиморфных локусов P 95 =0,400, P 99 =0,480. Значения фактической гетерозиготности ( H o ) самые низкие среди всех изученных видов и составляют, в среднем, 0,101. Различия между средними значениями гетерозиготности разных популяций лиственницы также самые низкие среди этих видов. Отклонения среднепопуляционных значений наблюдаемой гетерозиготности ( H o ) от ее среднего значения для всех популяций составляют –1,4…+2,1%, теоретически ожидаемой гетерозиготности ( H e ) –3,0…+1,1%. Столь незначительные отклонения объясняются общим низким уровнем полиморфизма вида: в среднем каждая особь лиственницы гетерозиготна по 10% генов.
Во всех изученных популяциях лиственницы отмечен дефицит гетерозигот. Среднее значение коэффициента инбридинга F по всем популяциям равно +0,188. Этот показатель сильно варьирует по градиенту географической широты и особенно долготы. В южных и юго-западных популяциях инбредная депрессия, судя по всему, выражена сильнее, чем в северных и северо-восточных. Ощутимый дефицит гетерозигот (F=до +0,516, в среднем F=+0,256) отмечен в популяциях Larix occidentalis Nutt. [6]. Среднее значение показателя FST равно 0,033, т.е. внутрипопу-ляционная изменчивость у лиственницы составляет 96,7%, тогда как на долю межпопуляционной изменчивости приходится лишь 3,3%. Среднее значение величины генного потока Nem составляет 7,33, т.е. число мигрантов равняется примерно 7 на поколение. Среднее значение всех комбинаций генетических дистанций [9] между популяциями лиственницы равно 0,010. Малые генетические различия между этими популяциями отчасти объясняются общим низким уровнем генетического полиморфизма вида. По этому показателю популяции лиственницы можно сгруппировать в 2 кластера: юго-западные и северовосточные.
Частоты аллелей в 5 природных популяциях можжевельника получены по 8ми полиморфным локусам, несущим 29 аллельных варианта. Поскольку можжевельник является двудомным видом, в данном исследовании речь идет об изучении аллозимного полиморфизма его женских субпопуляций. Частоты аллелей по большинству ген-ферментных систем близки во всех изученных популяциях можжевельника. Исключение составляют островная (Соловецкая) и крайнесеверотаежная популяция в северо-западной части Беломорско-Кулойского плато, где доминирует сибирский морфотип можжевельника. В целом высоко- и средне полиморфными у можжевельника являются локусы Lap-1, Lap-2 и Aat-1, несущие по 5-6 аллельных вариантов. Все остальные из изученных локусов слабо полиморфны или близки к мономорфным. Средние значения наблюдаемой гетерозиготности во всех изученных популяциях можжевельника довольно близки и колеблются в пределах 25,0 –31,0%, кроме Соловецкой, где среднее значение наблюдаемой гетерозиготности почти в два раза ниже и составляет всего 17,2%. Отклонения средних значений ожидаемой гетерозиготности от средних значений наблюдаемой, т.е. фактической гетерозиготности во всех популяциях довольно существенны. Исключение составляет лишь Беломорско-Кулойская популяция, где средние значения наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности примерно равны и, как следствие этого, коэффициент инбридинга невысок. Отметим, что в этой популяции отмечено произрастание исключительно можжевельника сибирского.
Оценка коэффициентов генетических дистанций Нея показала близость генетической структуры материковых популяций можжевельника. Для этих же популяций характерен более высокий генетический полиморфизм (среднее число аллелей на локус варьирует от 2,9 до 3,1). Островная Соловецкая популяция, кроме более низкого генетического полиморфизма (среднее число аллелей на локус составляет 2,5), характеризуется также почти двукратным снижением уровня гетерозиготности. Бе-ломорско-Кулойская популяция можжевельника, несмотря на более низкую генетическую изменчивость (в среднем 2,3 аллеля на один полиморфный локус), по количеству гетерозигот близка к Плесецкой, Онежской и Ижемской.
Выводы: выявлены существенные различия в генетической структуре материковых и островной популяций можжевельника. Еще большие различия наблюдаются между популяциями, где доминируют разные морфотипы можжевельника. Генетически более стабильны монотипные популяции.
Список литературы Генетический полиморфизм популяций хвойных Европейского Севера
- Гончаренко, Г.Г. Руководство по исследованию хвойных видов методом электрофоретического анализа изоферментов/Г.Г. Гончаренко, В.Е. Падутов, В.В. Потенко//Гомель, 1989. -128 с.
- Гончаренко, Г.Г. Исследование генетической структуры и уровня дифференциации у Pinus sylvestris L. в центральных и краевых популяциях Восточной Европы и Сибири/Г.Г. Гончаренко, А.Е. Силин, В.Е. Падутов//Генетика. -1993. -Т.29, №12. -С. 2019-2038.
- Крутовский, К.В. Генетическая изменчивость сибирской кедровой сосны Pinus sibirica Du Tour. Сообщение 2. Уровни аллозимной изменчивости в природной популяции Западного Саяна/К.В. Крутовский, Д.В. Политов, Ю.П. Алтухов//Генетика. -1988. -Т.24, №1. -С. 118-125.
- Старова, Н.В. Генетическая изменчивость сосны обыкновенной в возрастных группах/Н.В. Старова, Ю.А. Янбаев, Н.Х. Юмадилов, З.Х. Шигапов и др./Генетика. -1990. -Т.25, №3. -С. 498-505.
- Alden, J. Genetic diversity and population structure of Picea glauca on an altitudinal gradient in interior Alaska/J. Alden, C. Loopstra//Can. J. For. Res.. -1987. -Vol.17, №12. -P. 1519-1526.
- Fins, L. Genetic variation in allozymes of western larch/L. Fins, L.W. Seeb//Can. J. For. Res. -1986. -Vol.16, №5. -P. 1013-1018.
- Kinloch, B.B. Caledonian scots pine: origin and genetic structure/B.B. Kinloch, R.D. Westfall, G.I. Forrest//New Phytol.. -1986. -Vol.104. -P. 703-729.
- Moran, G.F. The origin and genetic diversity of Pinus radiate in Australia/G.F. Moran, J.C. Bell//Theoretical and Applied Genet. -1987. -Vol.73, №4. -P. 616-622.
- Nei, M. Genetics distance between populations//Amer. Nat.. -1972. -Vol.106, № 949. -P.283-292.
- Plessas, M.E. Allozyme differentiation among populations, stands and cohorts in Monterey pine/M.E. Plessas, S.H. Strauss//Can. J. For. Res. -1986. -Vol.16, №6. -P. 1155-1164.