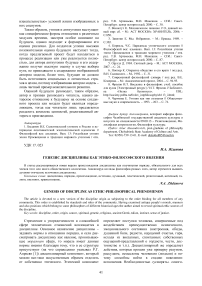Генезис дисциплины как этико-философского явления
Автор: Жданова Наталья Адамовна
Журнал: Вестник Бурятского государственного университета. Философия @vestnik-bsu
Рубрика: Философия
Статья в выпуске: 14, 2010 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается новая версия происхождения дисциплины как подчинения порядку, обязательного для всех членов того или иного общественного коллектива. Анализируя взгляды философов разных эпох, автор стремится выявить духовно-этические источники дисциплины.
Дисциплина, порядок, происхождение, источник, духовный, генетический, религиозный, античный, талион, инстинкт, правосознание
Короткий адрес: https://sciup.org/148179359
IDR: 148179359 | УДК: 17.
Текст научной статьи Генезис дисциплины как этико-философского явления
;
Можно также высказать предположение, что дисциплина в значении наказания могла выступать как частный случай действия формирующегося талиона, то есть представлять собой ответное воздаяние за неисполнительность. Талион, указывает Р.Г. Апресян, предполагает ответное, или реактивное, действие – такое, которое указывает, как следует поступать в отношениях, заданных другими, а дисциплина в этом случае может восприниматься не только как реактивное действие (со стороны властвующего лица дисциплинарного акта), но и одновременно как инициативное действие (со стороны подчиненного). «Можно допустить, что для норм ценностной системы, основанной на талионе, как исторически ранней, инициативное действие было безразлично» [4, с. 74]. Однако меру воздаяния – равность «преступлению», когда возмездие должно строго соответствовать нанесенному ущербу – в дисциплинарном акте было определить сложно, поэтому понятие дисциплины как физического наказания за неисполнительность в ходе исторического развития должно было дополниться иными смысловыми оттенками, как это уже было показано ранее. Думается, как только начинает формироваться стиль отношений, заданный «золотым правилом», репрессивная форма начинает заменяться теми, в которых между участниками дисциплинарного акта предполагаются отношения равенства и взаиморасположенности (великодушия, сочувствия, сострадания и т.п.). Как отмечает Р.Г. Апресян, принцип репрессированной справедливо- сти не исчезает совсем, а уходит в резерв, чтобы выступать в ситуациях, когда принципы уважения и любви воспринимаются как слабость, бессилие или лицемерие. Можно, вероятно, рассматривать дисциплину как нерасчлененное целое, воплощающее в себе как принципы талиона, так и принципы «золотого правила» (та сторона дисциплинарного акта, которая уже морально развита, способна руководствоваться требованиями «золотого правила», а для тех, кто еще не достиг должного нравственного развития, более действен талион как «возможность сохранения человечности в неприспособленных для человечности обстоятельствах» [4, с. 83]2. Затем, когда моральное сознание подчиняющихся достигло момента развития, указывающего на рефлексирование над собственными действиями, на выход из-под плена чистого страха наказания за непослушание появляются собственно моральные мотивы поведения подчиненных, желание сделать выбор из множества поведенческих вариантов, проявить собственную волю и оценить волевые действия властвующего лица (появились чувство стыда, затем и чувство обязанности, а позднее и чувство долга перед окружающими, перед умершими, старшими и т.п.).
Однако дисциплина может рассматриваться не только как этическое явление, но и как духовное, и здесь огромную роль играет культура народов, давших миру это понятие . Данное слово латинского происхождения, поэтому его истоки следует искать в греко-римской истории. Нам представляется очевидным, что на характер формирующейся дисциплины большое влияние оказало мировоззрение древних греков. Как указывал О. Шпенглер, мир долгое время представлялся им бессмысленным нагромождением отдельных вещей, среди которых они ощущали себя гонимыми и раздавленными. «Вечная боязнь, священный трепет, глубокая беспомощность» [5, с. 129] – таково мироощущение древнего человека, для которого космос долгое время казался также множественностью отдельных тел. Вселенная – сумма предметов, а предметы, явления ее – это боги, которые часто своею завистью доводят человека до отчаяния. И над всей этой картиной мира господствует Судьба – Мойра, не божество, а слепая, лишенная связей случайность, та неизбежность, которой подвластны все без исключения, даже боги, не говоря уже о человеке. Как подчеркивал Д. Родзинский [6, с. 24], образ Мойры являлся олицетворением женщины-прародительницы матриархального рода, имеющей безграничную власть над жизнью людей, определяющей с момента рождения человека его удел и призвание и превратившейся позднее в символ внешней для человека силы как господствующей в мире необходимости.
Не надеясь понять логику поступков Судьбы, человек либо покорно подчинялся ей, либо пытался обмануть ее, надев соответствующую маску, сделав понимающий жест, что должно было показать оп- ределенную долю собственной власти над судьбой; при этом много раз менялась и роль, и маска в попытке найти ту, что, по его мнению, с одной стороны, угодна судьбе, а с другой – помогла бы скрыть себя, то есть защитить от взгляда Судьбы, постоянно следящей за ним и контролирующей его действия. Бесчисленные табу, всевозможные ритуальные действия того времени могут считаться первыми требованиями дисциплинарного толка, источник которых часто был скрыт, неведом для человека, но цель которых неосознанно воспринималась, с одной стороны, как определенная мольба о милости, а с другой – как некий способ в определенной степени все же подчинить судьбу своей власти, что можно назвать своеобразной пропедевтикой дисциплины, преддисциплиной. О. Шпенглер совершенно справедливо уравнивает эту пробудившуюся потребность подчинить, принудить с необходимостью познать. Познать – значит подчинить своей власти. Именно такое ощущение испытывал древний человек, но эти же понятия сфокусировались позднее в формирующемся древнегреческом понятии «дисциплина».
О. Шпенглер называет культуру античности культурой жеста. Действительно, спрятаться от Судьбы невозможно, бежать некуда, единственное, что можно сделать в безвыходной ситуации, – постараться хотя бы выглядеть красиво – величественно, величаво – даже в самые трудные моменты жизни, даже в момент жесточайшего наказания. Красивый жест, поза – это также определенная маска, роль, которая способна была подарить человеку такое необыкновенное чувство радости, катарсиса, что ради него можно было не только приложить определенные физические усилия, но и пожертвовать жизнью. Подобный сформированный древними людьми способ держать себя наложил существенный отпечаток на возникающую дисциплину.
Думается, что знаменитый философ Платон ближе многих подошел к решению интересующего нас вопроса. А.Ф. Лосев указывает: тимос ( thymos ) – один из коней в колеснице души Платона – не нуждается в биче, но слушается только приказов ума возничего. Это, по мысли греческого философа, и дает возможность человеку владеть собой, подчинять себе то, что может испортить душу, и освобождать то, что ведет к добродетели. По А.Ф. Лосеву, тимос «у Платона … как середина между разумом и вожделением» [7, с. 356], «подвижная, весьма неустойчивая и чувствительная середина, которая трепещет между двумя крайними полюсами души» [7, с. 357]. Но и сегодняшняя дисциплина является именно двухплановой, с двумя крайними полюсами (от вседозволенности до тирании) сферой, середина ее очень чувствительна, неустойчива и постоянно грозит отклониться к тому или иному своему полюсу, и внешне она тоже ярко проявляется, что и может служить доказательством родственности ее к тимосу.
У Платона есть также понятие софросина (sophrosyne) – это, как указывает А.Ф. Лосев, явление, синтезирующее в себе рассудительность, благоразумие и здравомыслие. Оно также определяет душевную жизнь человека. Сам Платон характеризует ее следующим образом: «Софросина есть то самое единомыслие, согласие худшего и лучшего по природе в том, кому должно начальствовать в обществе и в каждом человеке» (2, 432 а) [7, с. 359]. По Платону, это один из важнейших принципов благоустройства в обществе и в душе человека, а благоустройство, по мысли древнегреческого философа, есть прежде всего порядок. Поэтому мы можем предположить, что здесь идет речь о явлении, имеющем отношение к будущему понятию «дисциплина» как явлению, сохраняющему порядок.
Суммировав основополагающие моменты в характеристике софросины, приходим к выводу: соф-росина – это что-то единое, соединяющее в себе здравый смысл, исходящий из справедливости и чувства ранга; связанное с внешним поведением при выполнении определенных дел, объединенных, в свою очередь, мыслью о наведении общего порядка, – с нашей точки зрения, именно софросину Платона можно считать основополагающей для рождения понятия дисциплины.
Позднее, уже в эпоху Нового времени, И. Кант, возможно, используя высказывания Цицерона3, указывал, что человек должен научиться совершать действия, которые не желает, т.е. неохотно совершаемые действия, и тем самым добровольно подчиниться определенным правилам, нормам, поставив их выше себя. Для И. Канта дисциплина – инструмент, способный создать из дикого, природного существа, каковым он рождается на свет, культурного человека. «Дисциплина не дает человеку под влиянием его животных наклонностей уйти от его назначения, человечности. Она, например, должна удерживать его от того, чтобы он не бросался дико и необдуманно в опасности… дисциплина есть … укрощение дикости» [8, с. 454]. При этом мыслитель подчеркивает, что дисциплина является самым первым, исходным навыком, которым должен овладеть человек, и это можно сделать только в детстве и уже невозможно восполнить ни в какие другие периоды развития личности. Человек способен к усвоению данного навыка только потому, что ему изначально, от природы дана удивительная способность, которую И. Кант определяет как влечение самого человека выделиться из мира животных существ, проявить свою характерную особенность – желание жить в среде себе подобных. Именно благодаря данному влечению человек поддается, подчиняется укрощению собственной дикости. Только после того, как у человека под влиянием данного природного влечения появился данный навык, т.е. привычка подчиняться укрощению своей дикости, подчиняться самым главным, основным правилам человеческого бытия, человек способен формировать все другие навыки, делаю- щие его культурным человеком.
В эпоху Новейшего времени русские мыслители также предприняли попытку определить корень явления, влияющего на внешние поступки человека. Для И. Ильина, например, им является правосознание, т.е. «сознание своих прав и обязанностей» [9, с. 115]. Первоначально оно присутствует в человеке как наивное, полусознательное, непосредственное убеждение в неодинаковой допустимости и верности человеческих действий, в наличии совсем «недопустимых» или, наоборот, «справедливых» решений и поступков. И. Ильин считает, что это убеждение лежит в основании всякого закона и обычая и генетически предшествует всякому правотворчеству, значит, на наш взгляд, и дисциплина тоже, скорее всего, входит в ее состав. По И. Ильину, правосознание присуще каждому человеку и присутствует в нем обычно как смутное, неуверенное и неосознанное «правовое чувство», как бы инстинкт правоты как особая духовная настроенность инстинкта в отношении к себе и к другим людям, естественное чувство права и правоты, или иначе инстинктивное правочувствие, с помощью которого человеком утверждается собственная духовность и признается духовность других людей. Оно есть инстинктивная воля «к духу, к справедливости и ко всяческому добру» [9, с. 286], то есть корень его находится в религиозном чувстве и в совести. Если духовность инстинкта обладает достаточной силой и определенностью и может усвоить духовный смысл, цель и назначение права, тогда удается этот инстинкт сделать «законопослушным» и «лояльным». Дисциплина, по И. Ильину, как качественная характеристика воли, становится, таким образом, одним из элементов правосознания (народного и индивидуального). Для Ильина правосознание в ходе развития человека может стать дисциплиной, но вне религии эта дисциплина есть просто упорядочение своих влечений с помощью волевых усилий, а на уровне государства такая внешняя дисциплина совместно с развитием техники ведет к определенному уровню цивилизации. Корень же здорового правосознания имеет религиозную природу, поскольку дух инстинкта, как и воля к духу, есть, по словам И. Ильина, искание божественного совершенства [9, с. 202]. Нормальное, здоровое правосознание есть «духовная дисциплинированность инстинкта, которая вызывает в нем живое чувство ответственности и сообщает ему известное чувство меры во всех социальных проявлениях человека» [9, с. 213], или иначе «легкий удерж», мешающий человеку совершить запретное, причем, подчеркивает философ, этот «удерж» «всегда находит для себя глубокую санкцию в совести и высокую санкцию в религиозности» [9, с. 213]. Человек при этом инстинктивно чувствует предел своих полномочий, внутренне понуждается к исполнению своих обязанностей и отталкивается от того, что находится под запретом. При этом в выявлении этических корней дисцип- лины нам представляется очень важным выдвижение идеи начала, выражающего в себе целостное сочетание меры, правоты, добра и духа при ведущем положении последнего.
Таким образом, этико-философский анализ идеи происхождения и развития дисциплинарного начала дает возможность более осознанно подходить к формированию дисциплинированности отдельной личности или целого коллектива, учитывать не только этико-психологические, но и культурологические, религиозные особенности людей, входящих в то или иное социальное целое.
Примечания
Мы не говорим здесь о степени моральности властвующих лиц. Важно то, что они уже могли со стороны взглянуть на свое поведение и поведение окружающих, осознать необходимость совершения чего-либо в интересах общего блага.
-
2 По мнению Р.Г. Апресяна, любое реактивное действие (а к таковым мы относим и дисциплину) должно сначала искать выход на основании этики любви, потом – либеральной этики прав и обязанностей и только в последнем случае переходить к этике кары – кары, адекватной проступку.
-
3 Знаменитый Цицерон, рассуждая о «подобающем» (по латыни decorum, по-гречески prepon), характеризовал его как уважение, почтительность, сдержанность, всяческое обуздание душевных волнений и меру во всем. При этом римский оратор подчеркивал, что данное свойство отличает людей от диких животных, что человек должен выполнить достойно нежелаемое им действие («Если вдруг обстоятельства вынудят вас заниматься делом чуждым нашему характеру и склонностям, нужно все силы, все помыслы, все за-
боты направить на то, чтобы делать это дело если не образцово, то уж не очень плохо»). (Цицерон М.Т. Об обязанностях // Приложение к книге: Лосев А.Ф. Эллинистически-римская эстетика I–II вв. н.э.– М., 1979. – С. 368.