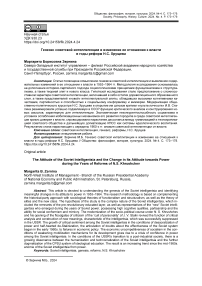Генезис советской интеллигенции и изменение ее отношения к власти в годы реформ Н.С. Хрущева
Автор: Зернина М.Б.
Журнал: Общество: философия, история, культура @society-phc
Рубрика: История
Статья в выпуске: 4, 2024 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена осмыслению генезиса советской интеллигенции и выявлению содержательных изменений в ее отношении к власти в 1953-1964 гг. Методология исследования основывалась на дополнении историко-партийного подхода социологическими принципами функционализма и структурализма, а также теорией элит и нового класса. Гипотезой исследования стало предположение о сложносоставном характере советской интеллигенции, включавшей в себя остатки дореволюционного образованного слоя, а также представителей «новой» интеллектуальной элиты, обладавших высокими когнитивными качествами, партийностью и способностью к социальному конформизму и мимикрии. Модернизация общественно-политического курса при Н.С. Хрущеве и открытие им шлюзов критики «культа личности» И.В. Сталина реанимировали успешно подавляемую в СССР функцию критического анализа и конструирования новых смыслов, характерную для интеллигенции. Экономическая неконкурентоспособность социализма в условиях ослабления мобилизационных механизмов его развития породила в среде советской интеллигенции кризис доверия к власти, спровоцировала нарастание диссонанса между гуманизацией и технократизацией советского общества и дальнейшую догматизацию КПСС как системы идеологического воспитания. Результатом стала нарастающая с середины 1960-х гг. аномия советской интеллигенции от власти.
Советская интеллигенция, генезис, реформы, н.с. хрущев
Короткий адрес: https://sciup.org/149145366
IDR: 149145366 | УДК: 930.23 | DOI: 10.24158/fik.2024.4.24
Текст научной статьи Генезис советской интеллигенции и изменение ее отношения к власти в годы реформ Н.С. Хрущева
Введение . Исторические исследования проблемы взаимоотношения образованной, «думающей» элиты советского общества с властью расширяют наши знания о механизмах функционирования общественно-политической системы сталинизма.
Под интеллигенцией в настоящей статьей мы понимаем людей, имеющих определенный уровень образования, полученного в учебных заведениях, а в отдельных случаях – путем самостоятельных познавательных усилий, для которых умственный труд является основным занятием. Советская интеллигенция в 1953–1964 гг. имела сложносоставной характер и включала в себя: творческую, «продуктом» деятельности которой было создание смыслов; технократическую, занимающуюся принятием эффективных решений на основе объективных данных, элиты; номенклатуру, осуществляющую выработку и поддержание «идеологической чистоты» в обществе, а также контроль сохранения политического курса.
Целью настоящей статьи выступило осмысление генезиса советской интеллигенции и выявление содержательных изменений в ее отношении к власти, произошедших за годы реформ Н.С. Хрущева.
Методология исследования . Методология настоящего исследования основана на дополнении познавательных возможностей историко-партийного подхода принципами структурного функционализма, теории элит и теории нового класса, распространенными в современных социальных науках.
Историко-партийный подход к проблеме взаимоотношения интеллигенции и советской власти базировался на ленинском внеклассовом понимании первой из названных как «всех образованных людей, представителей свободных профессий вообще, представителей умственного труда» (Ленин, 1968: 39). Данное определение в начале 1920-х гг. получило свое развитие в работах партийных интеллектуалов – одного из основателей Коммунистической академии профессора М.А. Рейснера и историка-марксиста Б.И. Горева. Определявший интеллигента как профессионала, занятого умственным трудом, М.А. Рейснер относил к их числу и образованных бюрократов (Рейснер, 1922), а Б.И. Горев выделял внутри интеллигенции прослойку хозяйственных руководителей, выполняющих функции управления и надзора, а также гуманитарную и техническую интеллигенцию, производящую, как и пролетарии физического труда, прибавочную стоимость (Горев, 1923: 21, 31–33). Рассматривая «старую» интеллигенцию как группу образованных профессионалов, обслуживавших «эксплуататорские» классы и не разделяющих цели «строительства социализма» в СССР, руководители большевистской партии относились к ним настороженно и выступали за создание «новой» («пролетарской») интеллигенции посредством ускоренного развития системы профессионального и партийно-советского образования (Балашов, 2024: 127–128).
В общественных науках проблематика генезиса современной интеллигенции была разработана представителями функционализма и структурализма Т. Парсонсом и П. Бурдье, а также социальным философом З. Бауманом. По мнению Т. Парсонса, интеллигентов (или в его терминологии «профессионалов») в социальной структуре общества выделяют следующие критерии: наличие образования, позволяющего передавать интеллектуальный компонент и создавать ценностный вектор; навыки реализации профессиональных знаний; альтруистическая мотивация труда – уверенность в том, что их компетенция используется в интересах общества (Parsons, 1939). Согласно З. Бауману, в основе власти интеллектуалов лежит контролируемая ими система образования, способствующая воспроизводству национальных культур и создающая необходимые для рационального управления обществом знания (Bauman, 1989). При этом основной функцией интеллектуалов, по мнению П. Бурдье, выступает критическая рефлексия скрытых стратегий господства и подчинения в обществе (Бурдье, 2010).
Содержание воззрений представителей теории элит и теории «нового класса» (В. Парето, Дж. Бернхэма, А. Гоулднера, А.Г. Авторханова, М.С. Восленского и др.) на проблему взаимоотношения советской интеллигенции с властью было рассмотрено автором ранее (Зернина, 2024).
Результаты . К началу 1950-х гг. советская интеллигенция имела сложносоставной генезис и включала в себя остатки сумевшей приспособиться к советской власти «старой» интеллигенции, а также подготовленную в 1920–1940-е гг. «новую», обладавшую высокими когнитивными качествами, а также способностью к социальному конформизму и мимикрии.
Сформировавшая путем симбиоза образованной дворянской бюрократии и разночинцев российская интеллигенция к началу XX в. несла в себе ценности социального мессианства: гражданскую ответственность за судьбу Отечества, восприятие самой себя как носителя общественной совести, способной нравственно сопереживать «простому народу». Настроения интеллигенции в большинстве своем имели антиправительственный характер и ориентировались на идеи либерализма, народничества и марксизма. Вышедшие после Первой российской революции сборники статей «Вехи» и «Интеллигенция в России»1 надолго задали мейнстрим дискуссии о взаимодействии интеллигенции и власти в России своими идеями о беспочвенном и радикальном характере российской интеллигенции, ее оторванности от народа, интересы которого она стремилась защищать.
Октябрьская революция 1917 г. изменила многие ключевые черты российской интеллигенции. Большая часть ее осудила большевиков, видя в них узурпаторов и разрушителей русской культуры. Пришедшей к власти в октябре 1917 г. партии большевиков (с 1918 г. – РКП (б), с 1925 г. – ВКП (б), с 1952 г. – КПСС) интеллигенция как «двигатель прогресса» и «совесть нации» оказалась не нужна (эту роль приняла на себя сама партия), а главное ее предназначение – свободно мыслить, подвергать рефлексии правительственный курс и формировать общественное мнение – вошло в противоречие с основами общественно-политического устройства Советского государства.
Отказывая небольшевистской интеллигенции в доверии, новая власть в то же время понимала, что без образованных людей нормальное функционирование властного аппарата невозможно, поэтому к работе была привлечена часть «старой» интеллигенции, лояльной к новому строю. Одним из первых политику большевистской партии по работе с интеллигенцией апробировал создатель Красной армии, первый председатель Реввоенсовета Л.Д. Троцкий. Сформированный им из числа бывших офицеров царской армии («военспецов») командный состав Красной армии обеспечил победу большевиков в Гражданской войне. Для контроля за политической лояльностью военспецов на фронте использовался институт политкомиссаров из числа членов большевистской партии, которые санкционировали все решения профессиональных военных, а в тылу получавшие паек семьи комсостава находились под негласным надзором органов Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). После окончания Гражданской войны большевистская политика работы с интеллигенцией была переориентирована на народное хозяйство. Назначенный в 1921 г. наркомом путей сообщения, а 1924 г. – председателем Высшего совета народного хозяйства СССР создатель органов ВЧК – Государственного политического управления (ГПУ) – Объединённого государственного политического управления (ОГПУ) Ф.Э. Дзержинский широко использовал дореволюционных технических специалистов в управлении промышленно-транспортным комплексом страны.
Привлечение интеллигенции на свою сторону советская власть совмещала с гонениями на тех её представителей, которые не были лояльно настроены к режиму. Осенью 1922 г. была осуществлена высылка из страны виднейших представителей гуманитарной интеллигенции – философов, социологов, историков, университетских профессоров Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, И.А. Ильина, Л.П. Карсавина, А.А. Кизеветера, Н.О. Лосского, П.А.Сорокина, Г. В. Флоровского, С.Л. Франка и др.
Политика большевистской партии в 1920–1930-е гг. сводилась к вытеснению дореволюционной интеллигенции (так называемому «спецедству») и формированию ее новой, советской формации, представленной, с одной стороны, техническими специалистами, а с другой, – партийно-советскими работниками административного и идеологического аппарата. Проведенные в довоенный период политические репрессии позволили изъять из советского общества значительную часть небольшевистской интеллигенции, а также «старой партийной гвардии», составлявшей ядро административно-советского, хозяйственного и силового аппарата. В конце 1930-х гг. их заменила воспитанная за годы советской власти молодежь, прошедшая ускоренное обучение в профессиональных и партийно-советских учебных заведениях и образовавшая новый социальный класс работников умственного труда.
Победив в Великой Отечественной войне, сталинизм столкнулся с кризисом в отношениях между властью и интеллигенцией, обусловленным разрывом между ожиданиями народа на улучшение условий его жизни и реальным положением дел в стране. Проведя в 1946–1952 гг. погромные идеологические компании против творческой и научно-технической интеллигенции («жданов-щина» и «борьба с космополитизмом»), а также превентивные репрессии против военной, хозяйственной, медицинской и региональной номенклатуры («артиллерийское дело», «дело авиаторов», «военно-морское дело», «трофейное дело», «дело о сионистском заговоре», «дело врачей-убийц», «ленинградское дело», «мингрельское дело» и др.), сталинизм сумел временно «подморозить» советское общество. К марту 1953 г. тотально зависимая от государства «новая» интеллигенция решала поставленные КПСС прикладные научные, социально-экономические и идеологические задачи, утратив при этом функции критического анализа и конструирования новых смыслов.
В отличие от западных интеллектуалов, которые в условиях многопартийной конкуренции автоматически входили в состав элиты, то есть социальной группы, реально влияющей на принятие политических решений в стране, для интеллигенции в СССР путь в число избранных был опосредован членством и положением в составе КПСС. Беспартийный интеллигент имел пределы своего карьерного роста, а исключение специалиста или руководителя из КПСС влекло за собой его профессиональную маргинализацию.
Модернизация советского общества, произошедшая в годы «великого десятилетия» Н.С. Хрущева (1953–1964), привела к существенному изменению отношения советской интеллигенции к партии. На этот процесс повлияли следующие факторы:
-
– десакрализация власти, произошедшая в результате разоблачения «культа личности» И.В. Сталина на XX съезде КПСС;
-
– половинчатый характер десталинизации общественно-политической системы, представлявшей собой демонтаж наиболее одиозных институтов сталинизма – системы принудительного труда и механизма массовых репрессий;
-
– провалы в экономической политике и ухудшение продовольственной ситуации в начале 1960-х гг., девальвированные лозунги Н.С. Хрущева, призывавшие построить коммунизм;
-
– противоречия между курсом на опережающее капиталистические страны социально-экономическое развитие СССР, требовавшее выдвижения технократических кадров, и консервативной системой партийного управления.
Обсуждение . Разоблачение «культа личности» И.В. Сталина на XX съезде КПСС привело к разрушению моральных основ созданной им системы власти. Ущербность политической позиции доклада Н.С. Хрущева «О культе личности и его последствиях»1 состояла в проведении им центральной мысли, что цели политики И.В. Сталина (коллективизация, индустриализация, подавление троцкистской и зиновьевско-бухаринской оппозиции) были в целом правильными, а вот методы ее осуществления – преступными и вредными, что заложило идеологическую «мину» под советскую систему. Результаты сталинской политики, которую во многом продолжали развивать ее «разоблачители», были неотделимы от средств ее осуществления и состава исполнителей (одним из которых являлся и сам Н.С. Хрущев).
На непоследовательность хрущевской концепции разоблачения «культа личности» И.В. Сталина, ее вредность для советского строя и коммунистической системы обращали внимание и политические противники Никиты Сергеевича в Президиуме ЦК КПСС, и иностранные компартии, и либералы, и представители советской интеллигенции. Как писал Ф.М. Бурлацкий, осудив тиранию, Н.С. Хрущев не затронул основ авторитарной власти, а, отвергнув культ личности, – в значительной степени сохранил систему, которая его породила (Бурлацкий, 2008: 97). Более жестко высказался В.Ф. Тендряков: «Хрущев ничего не собирался менять – пусть останется все как было! – но Сталина следует осудить и выбросить из истории …» (Тендряков, 1989: 303–304).
В рамках десталинизации был упразднен механизм внесудебных репрессий, произведен демонтаж системы ГУЛАГа, амнистия и освобождение заключенных. В 1960 г. принят новый Уголовный кодекс РСФСР2, заменивший собой УК РСФСР 1926 г.3, охранявший государство «диктатуры пролетариата». 25 апреля 1956 г. было отменено сталинское антирабочее законодательство, закреплявшее служащих за предприятиями и предусматривавшее уголовные наказания за незначительные трудовые нарушения.
В то же время советская карательная система не претерпела принципиальных изменений. Реабилитация «жертв сталинских репрессий» из числа крупных партийно-государственных деятелей носила неправовой, субъективно-политический характер. Так, власти сняли все обвинения в отношении венгерского революционера Бэлу Куна (являвшегося в том числе агентом НКВД), начальника политуправления Красной армии Я.Б. Гамарника, руководителей Октябрьского вооруженного восстания 1917 г. В.А. Антонова-Овсеенко и А.С. Бубнова, первого секретаря ЦК компартии Украины С.В. Косиора, маршалов М.Н. Тухачевского, В.К. Блюхера, А.И. Егорова и др., но отказали в реабилитации членам Политбюро Г.Е. Зиновьеву, Л.Б. Каменеву, А.И. Рыкову и Н.И. Бухарину, а также создателю Красной армии Л.Д. Троцкому. В 1960 г. закрытым Указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя Советского Союза было присвоено убийце Л.Д. Троцкого – Р. Меркадеру, при этом непосредственные организаторы этой «акции» генералы НКВД П.А. Судоплатов и Н.И. Эйтингон, награжденные за нее при И. Сталине, остались сидеть в заключении как соучастники «преступлений Берии».
В качестве главной цели советского правосудия, по-прежнему, оставалась охрана политического строя. Судебные приговоры по такого рода делам являлись предрешенными – партийные инстанции определяли общую установку, а следователи и судьи придавали ей необходимую правовую форму1.
Примерами политически мотивированных и несправедливых решений советской следственно-судебной системы при Н.С. Хрущеве стали: «Дело валютчиков» 1961 г. (когда уже осужденных к лишению свободы за махинации с иностранной валютой валютчиков расстреляли, применив к ним обратную силу нового уголовного закона) и «Дело рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода» 1962 г., которым инкриминировали бандитизм.
На фоне передачи на поруки для перевоспитания трудовым коллективам лиц, совершивших тяжкие уголовные преступления, осуждались и высылались из крупных городов советские интеллектуалы, ведущие, по мнению власти, паразитический образ жизни (например, в 1964 г. был осужден и выслан из Ленинграда как «тунеядец» будущий лауреат Нобелевской премии И.А. Бродский).
Привыкшая к эксплуатации бесплатной рабочей силы советская экономика в условиях ликвидации ГУЛАГа породила новые формы подневольного труда – военно-строительные части Минобороны СССР 2, а также освоение целины.
На фоне лозунгов Н.С. Хрущева «Догнать и перегнать США по производству мяса, масла и молока на душу населения» и «Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме» впечатляющие успехи советской индустрии в 1953–1964 гг. (в том числе лидерство в освоении космоса, создание атомной промышленности, начало внедрения ЭВМ и др.) были недостаточными. Замена в 1957 г. Н.С. Хрущевым министерств территориальными органами управления промышленностью и строительством (совнархозами) не привела к повышению эффективности советской экономики. Базовые принципы ее организации и мотивация агентов практически не изменились, а ослабление командно-административной системы управления в отсутствие рыночных регуляторов привело к падению исполнительской дисциплины. Не удалось сохранить темпы экономического развития, достигнутые к середине 1950-х гг. (Артемов, 2020: 67).
В сельском хозяйстве кратковременный эффект от распашки целинных и залежных земель к началу 1960-х гг. перестал ощущаться, а затратность колхозно-совхозного производства, напротив, возросла (если в 1953–1958 гг. каждый рубль стоимости сельскохозяйственной продукции требовал 0,56 руб. бюджетных капиталовложений, то в 1959–1964 гг. – уже 3,2 руб.3). Принятая в 1955 г. программа развития животноводства, а также принудительное внедрение в сельское хозяйство посевооборота кукурузы обернулись провалом. Волюнтаристские мероприятия на селе конца 1950-х гг. (массовое преобразование колхозов в совхозы, принудительный выкуп изношенной сельхозтехники у машинно-тракторных станций (МТС), ограничение использования личных приусадебных хозяйств колхозниками) свели на нет материальную заинтересованность сельхозпроизводителей, усугубляя кризисное состояние отрасли. С 1962 г. СССР вынужден был приступить к регулярным закупкам зерна за рубежом.
Экономические провалы политики Н.С. Хрущева, наложившиеся на раскручивание критики «культа личности», привели к латентной ресталинизации части советской интеллигенции. Как заявлялось в одном из анонимных писем, поступивших в ЦК КПСС, «если бы Сталин так руководил страной, те четыре года войны мы не выдержали б»4.
Жизненный уровень в СССР, заметно повысившийся при Н.С. Хрущеве по сравнению со сталинскими временами (рост средней заработной платы, увеличение социальных выплат, улучшение жилищных условий, рациона питания и продолжительности жизни людей), по-прежнему безнадежно отставал от ведущих капиталистических стран мира, что в условиях информационной открытости советского общества становилось все более очевидным.
Ирония советских людей на обещанное Н.С. Хрущевым «изобилие материальных и культурных благ» при коммунизме нашла свое отражение в комической репризе Тарапуньки и Штепселя (актеры – Ю.Т. Тимошенко и Е.И. Березин), в которой на вопрос «Где ты продукты покупаешь?» следовал ироничный ответ «Да я сумку к радиоприемнику подвешиваю!» (Томилин, 2016: 126). В условиях ослабления после смерти И.В. Сталина мобилизационных механизмов развития народного хозяйства экономическая неконкурентоспособность социализма стала очевидной.
Вступление СССР в середине 1950-е гг. в период научно-технической революции потребовало подготовки технократических кадров, способных принимать рациональные, научно-обоснованные решения. В СССР в 1950-е гг. было открыто более 80 новых вузов, на 70 % выросло число студентов1, которые стали заметными акторами городской жизни. В то же время бэкграунд самого Н.С. Хрущева как профессионального партийного работника, не получившего законченного высшего образования и опиравшегося на административный аппарат во внутрипартийной борьбе, привел в 1953–1964 гг. к превращению партийных структур КПСС фактически в главные хозяйственные органы страны. Вместо выдвижения в аппарат управления образованных технократов Н.С. Хрущев пошел по пути повышения квалификации партийных работников и усилил идеологический контроль за интеллигенцией и советским студенчеством.
В 1956–1958 гг. были созданы четырехгодичные высшие партийные школы КПСС, дающие своим выпускникам законченное высшее партийно-политическое образование, а также знания в области экономики и управления народным хозяйством (70 % в учебных планах занимали экономические дисциплины и дисциплины по организации сельскохозяйственного и промышленного производства), а также сельские советско-партийные школы для подготовки управленческих кадров, которые давали среднее партийно-политическое и сельскохозяйственное образование (Щербина, 2023: 159). Доступ в вузы ставился в зависимость от партийной рекомендации. На обсуждении в ЦК КПСС в 1958 г. реформы высшего образования Н.С. Хрущев заявил: «Должно учитываться не только одно желание поступающего в вуз, но и оценка его деятельности общественными организациями (профсоюзом, комсомолом), чтобы отбор был и по подготовленности, и по склонности, и по уверенности, что этот человек оправдает произведенные на него затраты…»2.
Антитехнократическая политика Н.С. Хрущева и провалы в реализации многих его реформ спровоцировали среди советской интеллигенции утрату доверия к власти и оказали существенное воздействие на дальнейшую эволюцию советского строя. Международный скандал с «делом Пастернака» в 1958 г., признание не подлежащим публикации в СССР и «антисоветским» романа В.С. Гроссмана «Жизнь и судьба» в 1961 г., сложный путь на широкий киноэкран фильма М.М. Хуциева «Застава Ильича» показали, что к концу «великого десятилетия» Н.С. Хрущева советская интеллигенция уже почти открыто ставила под сомнение справедливость построенного в СССР общества, в котором совесть и профессионализм подменялись партийной лояльностью.
Заключение . Модернизация общественно-политического курса при Н.С. Хрущеве привела к демонтажу системы принудительного труда и механизма массовых репрессий, а также на время ослабила политический контроль КПСС за обществом и советской интеллигенцией.
Открытие Н.С. Хрущевым шлюзов критики «культа личности» И.В. Сталина реанимировало успешно подавляемую в СССР властью функцию критического анализа и конструирования новых смыслов, характерную для интеллигенции. На фоне ее созидательного труда по развитию экономики и социальной сферы страны в условиях десакрализации власти и половинчатой десталинизации в среде интеллектуальной элиты постепенно шло нарастание критических настроений и артикуляция сомнений в эффективности советской системы в связи с провалами в экономической политике и ухудшением продовольственной ситуации в начале 1960-х гг.
Коммунистические лозунги Н.С. Хрущева, обещавшие советским людям изобилие материальных и культурных благ, входили в противоречие с отставанием СССР от ведущих капиталистических стран мира по ключевым показателям. Экономическая неконкурентоспособность социализма в условиях ослабления мобилизационных механизмов развития народного хозяйства породила в среде советской интеллигенции кризис доверия к власти. На этапе перехода СССР к постиндустриальному обществу нарастал диссонанс между гуманизацией и технократизацией советской интеллигенции и дальнейшей догматизацией КПСС в качестве системы идеологического воспитания. Результатом стала нарастающая с середины 1960-х гг. аномия («внутренняя эмиграция») советской интеллигенции, проявляющаяся в уклонении ее представителей от активного участия в общественно-политической жизни страны, их духовном отделении от государства, пассивном несогласии с господствующей в обществе идеологией.
Список литературы Генезис советской интеллигенции и изменение ее отношения к власти в годы реформ Н.С. Хрущева
- Артемов Е.Т. От Сталина к Хрущеву: мотивы и результаты новаций к экономической политике // Уральский исторический вестник. 2020. № 1 (66). С. 62–70. https://doi.org/10.30759/1728-9718-2020-1(66)-62-70.
- Балашов А.И. Подготовка управленческих кадров: теория, методология, организация. СПб., 2024. 244 с.
- Бурдье П. Социология социального пространства. СПб., 2010. 288 с.
- Бурлацкий Ф.М. Никита Хрущев и его советники – красные, черные, белые. М., 2008. 285 с.
- Горев Б.И. Интеллигенция как экономическая категория // На идеологическом фронте борьбы с контрреволюцией. М., 1923. С. 15–34.
- Зернина М.Б. Отношение советской интеллигенции к реформам Н.С. Хрущева // Общество: философия, история, культура. 2024. № 3 (119). С. 116–121. https://doi.org/10.24158/fik.2024.3.14.
- Ленин В.И. Полное собрание сочинений: в 55 т. М., 1962. Т. 8. 666 с.
- Рейснер М.А. Интеллигенция как предмет изучения в плане научной работы // Печать и революция. 1922. № 1. С. 99–106.
- Тендряков В.Ф. На блаженном острове коммунизма // Свет и тени «великого десятилетия». Л., 1989. С. 284–309.
- Томилин В.Н. Пропагандистские лозунги и действительность в СССР в период реформ Н.С. Хрущева // Гуманитарные и юридические исследования. 2016. № 3. С. 126–132.
- Щербина Е.Ю. Подготовка партийных кадров в СССР: обзор советской и современной российской историографии // Общество: философия, история, культура. 2023. № 10 (114). С. 155–162. https://doi.org/10.24158/fik.2023.10.21.
- Bauman Z. Legislators and Interpreters: Culture as Ideology of Intellectuals // Social Structure and Culture. Berlin, 1989. P. 313–332. https://doi.org/10.1515/9783110851021-017.
- Parsons T. The Professions and Social Structure // Social Forces. 1939. Vol. 17, iss. 4. P. 457–467. https://doi.org/10.2307/2570695.