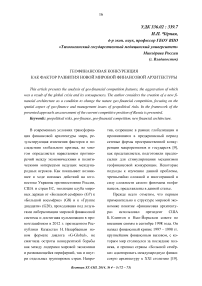Геофинансовая конкуренция как фактор развития новой мировой финансовой архитектуры
Автор: Чрная И.П.
Журнал: Вестник Хабаровской государственной академии экономики и права @vestnik-ael
Рубрика: Проблемы геофинансов
Статья в выпуске: 4-5, 2014 года.
Бесплатный доступ
В этой статье представлен анализ особенностей геофинансовой конкуренции, обострение которых стало результатом глобального кризиса и его последствий. Автор рассматривает создание новой финансовой архитектуры как условие для изменения характера геофинансовой конкуренции, уделяя особое внимание пространственному аспекту геофинансирования и управленческим вопросам геополитических рисков. В рамках представленного подхода представлена оценка текущей конкурентной позиции России.
Короткий адрес: https://sciup.org/14319858
IDR: 14319858
Текст научной статьи Геофинансовая конкуренция как фактор развития новой мировой финансовой архитектуры
В современных условиях трансформация финансовой архитектуры мира, результирующая изменения факторов и последствия глобального кризиса, во многом определяется нарастанием противоречий между экономическими и политическими интересами ведущих международных игроков. Как показывает возникшее в ходе военных действий на юго-востоке Украины противостояние России, США и стран ЕС, эволюция клуба мировых держав от «Большой семёрки» (G7) к «Большой восьмёрке» (G8) и к «Группе двадцати» (G20), проходившая под лозунгами либерализации мировой финансовой системы и достигшая кульминации в провозглашённом в 2012 г. президентом Республики Казахстан Н. Назарбаевым новом формате диалога «G-Global», не смягчила остроты конкурентной борьбы как между лидерами мировой экономики и развивающейся периферией, так и внутри отдельных группировок стран. Напро- тив, созревшие в рамках глобализации и проявившиеся в предкризисный период сетевые формы пространственной конкуренции макрорегионов и государств [9], как представляется, подготовили предпосылки для стимулирования механизмов геофинансовой конкуренции. Некоторые подходы к изучению данной проблемы, чрезвычайно сложной и многогранной в силу сложности самого феномена геофинансов, представлены в данной статье.
Прежде всего отметим, что первым применительно к структуре мировой экономике понятие «финансовая архитектура» использовал президент США Б. Клинтон в Нью-Йоркском совете по внешним связям в сентябре 1998 года. Он назвал финансовый кризис 1997 - 1998 гг. крупнейшим финансовым вызовом, с которым мир столкнулся за последние полвека, и призвал страны «Большой семёрки» адаптировать международную финансовую архитектуру к XXI столетию [19].
Своеобразной реакцией на это выступление стали в том же 1998 г. статьи в «Wall Street Journal» министра финансов Великобритании Г. Брауна, подчёркивающего, что в настоящее время мир вступил в эру взаимозависимых и подвижных рынков капитала, где отдельные экономики уже не могут быть в стороне от массивных стремительных и иногда дестабилизирующих глобальных финансовых потоков. Поэтому новая финансовая архитектура для смягчения существующих противоречий разных стран должна представлять кодексы поведения, новый глобальный регулятор и международный меморандум понимания, чётко определяющий ответственность за предупреждение и урегулирование кризисов [10].
Развивая эти идеи в 2009 г., уже будучи премьер-министром Великобритании Г. Браун, в совместной публикации с президентом Франции Н. Саркози «Глобальной финансовой системе – глобальную регуляцию», выделив исключительную роль Евросоюза в преодолении финансового кризиса, доказывал необходимость проявления Лондоном и Парижем инициативы в достижении нового мирового консенсуса. В связи с глобальным характером экономики, усилия по определению дальнейшей макроэкономической стратегии должны носить столь же масштабный характер. Важно обеспечить конкурентоспособность финансовых услуг при соблюдении интересов рядовых граждан, а не банкиров. Для достижения стабильности и уверенности в своих силах нужно привести глобальные финансовые рынки в более полное соответствие с такими ценностями семей и владельцев бизнеса, как усердие, ответственность, прямота и честность [12].
Ещё более показательной с точки зрения констатации факта сохранения и даже обострения конкурентной борьбы между участниками «Группы двадцати» является статья Г. Брауна как экс-премьера Великобритании «Глобальный кризис требует, чтобы страны G-20 заключили пакт об экономическом росте», в которой, задаваясь совершенно справедливым вопросом о том, что «если проблема действительно глобальная, то, может быть, многие дискуссии на национальном уровне несовершенны по определению и, возможно, даже сами себе вредят», он доказывает, что мир стал глубоко взаимосвязанным, и необдуманное заявление в одной из стран рискует обрушить фондовые рынки повсюду, а происшествие с богатейшим гражданином богатейшей страны – немедленно сказаться на судьбах бедняков в беднейшей. Решения отдельных стран, например США и европейских государств, тормозят экономический рост. Экономический кризис так серьезён, что ни одна страна, ни одна инициатива двух, трёх или четырёх стран не может предотвратить «потерянное десятилетие». При этом Г. Браун упрекает лидеров развитых государств в бездействии. В 2009 г. G-20 поставила три глобальных задачи. Первая, которая состояла в том, чтобы не допустить перерастания рецессии в депрессию, была отчасти решена. Но остальные две – режим финансовой стабильности и пакт об экономическом росте – остались без внимания. Тогда как пакт о росте должен стать ответом на то, что Азия по производительности труда, экспорту и инвестициям впервые за 150 лет обогнала Европу и Америку вместе взятые [11]. Работы Г. Брауна – яркое свидетельство тому, что «финансовая архитектура» в современной науке и практике существует, скорее, как политическая идея, имеющая некую этическую окраску, чем научный термин, имеющий какие-либо правовые основы. Подобных взглядов придерживался и достаточно известный английский банкир, занимавший в своё время посты в крупнейших банках мира и Международном валютном фонде, Андрю Крокетт, утверждавший, что согласованного определения «финансовой архитектуры» нет. В нём, по крайней мере, должно быть охвачено три аспекта: основная экономическая модель международных финансовых отношений, сеть институциональных механизмов для управления ею и разделение полномочий по принятию решений между отдельными странами.
Важно отметить, что А. Крокетт особое внимание уделял странам с развивающимся экономиками, которые были бенефициарами, а иногда и жертвами финансовой глобализации. Поэтому среди задач реформирования финансовой архитектуры – более справедливое распределение полномочий между государствами в формировании и управлении международной валютной системой [13].
Вместе с тем и спустя почти двадцать лет со времени образования «Большая восьмёрка» – G8 (Россия впервые приняла участие в саммите ведущих государств, тогда ещё G7 в 1991 г., но «восьмеркой» клуб стал только в 2002 г.) остаётся неформальным объединением государственных лидеров, без уставных докумен- тов, аппарата управления и программ финансирования. Соответственно эффективных решений, влияющих на глобальные финансовые рынки, этот дипломатический клуб как элемент формирующейся финансовой архитектуры принимать не может. Как иллюстрации приведём оценки экспертов. Например, Г. Мирзаян, О. Власова следующим образом охарактеризовали итоги саммита G8 (Япония, сентябрь 2008 г.): «Фактически клуб восьми не принял никаких значимых решений… Отчасти это произошло оттого, что «восьмерка» как клуб утрачивает способность решать глобальные проблемы» [4]. Л. Норман, эксперт из США, по итогам саммита G8 (Италия, июль 2009 г.): «Саммит «Группы восьми» нетвёрдо хромает к своему завершению. Те немногочисленные обязательства, которые взяли на себя ведущие страны мира, в частности в области климатических изменений, продовольственной помощи и торговли, не оправдывают ожиданий» [5]. Поэтому последовавший за обострением российско-украинского конфликта роспуск «восьмёрки» (как форма исключения РФ из элитной политической организации) большого резонанса не получил. (Интересно отметить, что призывы вывести Россию из состава G8 были и ранее. Например, в 2009 г. с таким предложением выступил сенатор США Дж. Маккейн, которое М. Олбрайт прокомментировала как «ошибочное суждение», в том числе и потому, что «роль России как постоянного члена Совета Безопасности ООН гораздо неизменнее и важнее, чем её участие в бессильной, по сути дела, «Группе восьми» [6]. Подобная реакция появилась в мировых СМИ на аналогичные предложения исключить РФ как ответ на отказ В. Путина ехать на саммит G8 в США в мае 2012 г., которую, например, в польской печати озвучил П. Волейко: «Расставание России с «Большой восьмеркой» должно пройти без дипломатических фейерверков. Просто не стоит высылать приглашения руководителю Российской Федерации на очередной саммит... Не стоит забывать, что G8 - это лишь дискуссионный клуб... эта формула кооперации с Россией себя исчерпала» [2]).
«Группе двадцати» в формировании новой финансовой архитектуре отводится более значимая роль. Во многом это связано с тем, что в её работе принимают участие также представители Международного валютного фонда, Всемирного банка, Форума финансовой стабильности, Международной организации комиссий по ценным бумагам, Банка международных расчётов, Организации экономического сотрудничества и развития, Группы ассоциаций профессиональных участников финансовых рынков. На G20 возложена координация деятельности международных организаций и форумов, рассматривающих наиболее сложные вопросы формирования новой мировой финансовой архитектуры. Хотя деятельность этих международных организаций периодически подвергается критике из-за неспособности решить проблемы выхода мировой финансовой системы из кризиса, тем не менее очевидно, что участие профессиональных институтов в создании новой финансовой архитектуры необходимо прежде всего для разработки общих подходов, стандартов и кодексов для обеспечения финансовой стабильности международной и национальных финансовых систем. В этом плане следует согласиться с позицией Н. Андроновой, утверждающей, что фактически реформа мировой финансовой архитектуры означает необходимость введения новых институтов, использующих многосторонние формы взаимодействия наиболее значимых участников мировой финансовой системы, а также модернизацию направлений координации деятельности этих международных экономических организаций [1]. Согласиться с той лишь оговоркой, что «наиболее значимые участники мировой финансовой системы» должны представлять не только развитые страны, но и государства с формирующимися рынками, а «многосторонние формы взаимодействия» - учитывать стремление этих участников к большей монетарной независимости, в том числе к появлению новых резервных валют.
Безусловно, отсутствие формализованных институциональных механизмов и рамочных условий деятельности государств-участников процесса создания новой финансовой архитектуры во многом обусловлено особенностями развития мировых финансовых отношений и, прежде всего, геофинансов как «новой географии финансов». Пространственный аспект этого нового феномена, по мнению экспертов консалтинговой компании «Value4Risk», не является нейтральным по своему воздействию, а влияет на распределение риска средств, капитала и кредитов между субъектами финансовой системы, претерпевающих трансформационные изменения, связанные в том числе с организационными изменениями (концентрация, централизация, рационализация, аутсорсинг), появлением новых схем финансирования (например, венчурного капитала), повышением волатильности и неопределённости на финансовых рынках [21].
Управление выделенными рисками, несомненно, имеет большое значение для адаптации геоэкономических субъектов в рамках новой финансовой архитектуры к условиям геофинансовой конкуренции государств, пытающихся реализовать свои геофинансовые стратегии. Как справедливо отмечает И.К. Пучков, геофинан-совая конкуренция – это среда оперирования коррелирующих между собой финансовых рынков в процессе обслуживания взаимосвязанных экономических циклов по формированию, распределению и аккумулированию мирового дохода. Главная цель такой конкуренции заключается в активизации механизмов поэтапного вплетения валютных, финансовых и производных эквивалентов в государственные, корпоративные и региональные, а также глобальные бизнес-процессы [7].
Геофинансовая конкуренция может принимать различные формы, однако с учётом доминирования на мировом рынке доллара и евро она носит несовершенный характер. Хотя вклад США в мировую экономику в настоящее время не превышает 23 % и постоянно снижается, большая часть мировой торговли за пределами еврозоны осуществляется в долларах, а 60 % всех золотовалютных резервов государств деноминированы в американской валюте и евро. При этом, согласно данным МВФ, доля доллара упала с 71 % в
1999 г. до 53 % в 2013 г., а доля евро выросла с 17,9 % в 1999 г. до 32,4 % в 2013 г. [15]. В результате такого положения экономическое взаимодействие развивающихся стран с остальным миром происходит исключительно через США. Следовательно, как подчёркивает Б. Стейл, изменения в монетарной политике Вашингтона могут оказать самое непосредственное влияние на глобальный рынок, расширяя или сужая потоки капитала в нужном направлении, а также снижая ценность валют развивающихся стран по отношению к доллару, что, в свою очередь, может изменять уровень инфляции в других государствах и влиять на объём их экспорта. Это лишает многие страны валютно-финансового суверенитета. Как пример, Эквадор и Сальвадор, которые полностью избавились от собственных валют и приняли доллар в качестве основной единицы для внутренних и внешних расчётов [20].
Появление на глобальных рынках новых игроков изменяет природу геофинан-совой конкуренции (проводя аналогии в терминах экономической теории, можно говорить о переходе от рынка монополии к олигополии и расширении её участников). Речь идёт, прежде всего об усиливающемся Китае: по оценкам Сообщества всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций (SWIFT), которые приводит The Wall Street Journal, юань с января по май 2014 г. переместился с 13-й на 7-ю позицию в списке наиболее широко используемых в международных платежах валют мира [22]. При всей неоднозначности оценок потенциала не стоит пренебрегать и всеми странами БРИКС, которые в июле 2014 г. создали Новый банк развития, объединяющий в себе черты Всемирного банка и Международного валютного фонда. Подобные процессы наблюдаются и в других международных организациях, пытающихся создавать собственные валюты региональных интеграционных союзов: «универсального доллара суверенных государств» в торгово-экономическом объединении США, Канады и Мексики; азиатской валютной единицы – АКЮ 2; арабского динара; австралийского доллара для Новой Зеландии и Папуа-Новой Гвинеи; африканского франка для стран Центральной Африки и западноафриканского франка для Западной Африки и т.д.
Усиление геофинансовой конкуренции с учётом выделенных нами ранее особенностей геофинансов как глобальной сети традиционных и виртуальных, дематериализованных (дестафированных) финансовых рынков, функционирующих на них участников, при организующей и ведущей роли интермедиаторов (посредников) [8] требует особого внимания к исследованию проблем управления геополитическими рисками. В литературе их возникновение связывается с политическими изменениями или нестабильностью в стране, вызванными внутренними и внешними конфликтами (в том числе военными), сменой правительства, законодательных органов и др.
Оценка влияния геополитических рисков на развитие геофинансовой конкуренции субъектов новой финансовой архитектуры является чрезвычайно сложной, но актуальной проблемой. Её острота во многом обусловлена тем, что до недавнего времени геополитические риски не рассматривались финансовыми аналитиками и учёными. Так, американский исследователь Д. Гланси указывает, что такие риски не учитываются по нескольким причинам: из-за комплексного характера; наличия большого количества причинно-следственных связей в политических решениях; субъективности методов геополитического анализа, дающих качественную, а не количественную оценку; отсутствия стандартных методик и критериев оценки результата, подобных финансовому анализу [14]. Подобный подход существовал и на уровне экспертных оценок. Так, например, президент и исполнительный директор американского банка «Goldman Sachs Group Inc.» Г. Кон ещё в марте 2014 г. утверждал, что в последние полгода – год рынки по какой-то причине игнорируют многочисленные геополитические риски. Россия, Крым, Украина – это не первый конфликт, который несёт в себе серьёзные геополитические риски, случившиеся за последний год. Конфликт между Китаем и Японией, а также серьёзный рост напряжённости на Ближнем Востоке не смогли остановить подъём мирового фондового рынка в последние 12 месяцев [17].
Company, Zurich Financial Services, Центром управления рисками Уортонской школы бизнеса, Оксфордской школой бизнеса и Национальным университетом Сингапура на основе консультаций с 700 экспертами-ведущими политическими и общественными деятелями, экономистами и учёными из разных стран мира. Названный экспертами 31 риск был сгруппирован по пяти основным категориям (экономические, экологические, геополитические, социальные и технологические). Отметим, что имеющие непосредственное отношение к предмету нашего анализа риски, такие как фискальные кризисы в ключевых экономиках, ошибки в глобальном управлении, несостоятельность ключевых финансовых механизмов и институтов, глубокая политическая и социальная нестабильность оказались включенными в топ-10 рисков, с которыми общество может столкнуться в ближайшее время [16].
конкурента и её хозяйственных субъектов из мировых финансовых потоков и рынков. Таковыми являются санкции против крупнейших российских банков, государственных корпораций, ограничения в использовании платёжных систем «Visa» и «MasterCard», к этому списку следует относить требования некоторых политических лидеров об исключении рубля из числа конвертируемых валют или угрозы исключения РФ из международной межбанковской системы платежей «SWIFT».
Проведённый анализ доказывает, что в современный период наблюдается обострение геофинансовой конкуренции как результата изменения баланса сил ведущих акторов глобальных рынков. Под усиливающимся воздействием геополитических рисков геофинансовая конкуренция превращается в один из основных факторов формирования новой финансовой системы, задающих вектор развития и требующих не столько идеологического обоснования модели международных финансовых отношений, сколько создания эффективных институциональных механизмов управления и разделения полномочий по принятию решений между отдельными странами. Для того чтобы эффективно конкурировать в неблагоприятных для себя условиях, России необходимо осуществление опережающей модернизации экономики, основанной на прорывных инновационных технологиях, включая денежно-кредитную и финансовую системы.
Список литературы Геофинансовая конкуренция как фактор развития новой мировой финансовой архитектуры
- Андронова Н. Институционально-управленческие аспекты формирования мировой финансовой архитектуры//Экономика и управление: науч.-практич. журнал. 2013. № 1. С. 60-63.
- Волейко А. Исключить Россию из «Большой восьмерки». URL: http://inosmi.ru/politic/20120522/192385672.html
- Геополитические риски для банков//Финансовая газета. 2014. 19 июня. URL: http://fingazeta.ru/scenarios-and-forecasts/geopoliticheskie-riski-dlya-bankov-192941
- Мирзаян Г., Власова О. Пасмурный саммит//Эксперт. 2008. № 28. (617). С. 17-21.
- Норман Л. G8 снова спотыкается и не выделяет обещанную помощь. URL: http://inosmi.ru/world/20090710/250590.html
- Олбрайт М., Перри У. Призыв Маккейна к «большой восьмерке» -образец ошибочного суждения. URL: http://inosmi.ru/world/20080709/242486.html
- Пучков И. К. Геофинансовая логика трансформации мировой экономики//Вестник Ярославского гос. ун-та им. П.Г. Демидова. 2010. № 4. С. 157-161. (Гуманитарные науки).
- Рожков Ю. В., Чёрная И. П. Инновационный вектор развития геофинансов эпохи постглобализации//Безопасность Евразии. 2012. № 2. С. 263-271.
- Рожков Ю. В., Чёрная И. П. Новая парадигма конкуренции регионов//Современная конкуренция. 2009. № 3. С. 51-63.
- Brown, G., A New Global Financial Architecture//The Wall Street Journal. Europe. 1988. 6. X. Р. 10.
- Brown G. Global crisis calls for G-20 growth pact//Washington post. August 10, 2011. URL:http://www.washingtonpost.com/opinions/global-crisis-calls-for-g-20-growth-pact/2011/08/09/gIQAKMnQ5I_print.html
- Brown G., Sarkozy N. For Global Finance, Global Regulation//The Wall Street Journal. Dec. 9, 2009. URL: http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748704240504574585894254931438
- Crockett A. Rebuilding the Financial Architecture//Finance & development. September 2009, Volume 46, Number 3. URL:http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2009/09/crockett.htm
- Glancy D.A. Building capacity for geopolitical risk analysis. The sovereign Wealth Fund initiative. Summer 2012. URL: http://fletcher.tufts.edu/SWFI-OLD/~/media/Fletcher/Microsites/swfi/pdfs/2012/Glancy%20Building%20Capacity.pdf
- Global financial stability report -Washington, DC: International Monetary Fund, 2014. URL:http://www.imf.org/External/Pubs/FT/GFSR/2014/01/pdf/text.pdf
- Global Risks 2014, Ninth Edition is published by the World Economic Forum. URL:http://www3.weforum.org/docs/WEF_GlobalRisks_Report_2014.pdf
- Goldman Sachs President Says Markets ‘Ignoring’ Risks. URL: http://www.bloomberg.com/news/2014-03-28/goldman-sachs-president-says-markets-ignoring-risks.html
- Peterson P.G., Hills C.A. The Future of the International Financial Architecture//Foreign Affairs. November/December 1999. URL:http://www.foreignaffairs.com/articles/55616/peter-g-peterson-and-carla-a-hills/the-future-of-the-international-financial-architecture
- Steil B. The international consequences of Fed policy//Foreign Affairs. July/August 2014. Volume 93, Number 4. URL:http://www.foreignaffairs.com/articles/141534/benn-steil/taper-trouble
- The new world of geofinancial risk management, or the geography of finance as a risk tool. URL:http://value4risk.com/world-geofinancial-risk-management-geography-finance-risk-tool
- URL: http://www.cbr.ru/Press
- URL: http://online.wsj.com/news