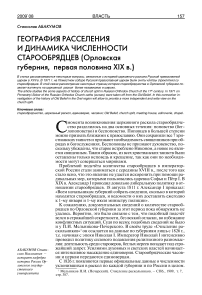География расселения и динамика численности старообрядцев (Орловская губерния, первая половина XIX в.)
Автор: Абакумов Станислав Николаевич
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: История
Статья в выпуске: 8, 2009 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с историей церковного раскола Русской православной церкви в XVII в. В 1971 г. на Поместном соборе Русской православной церкви были сняты клятвы (проклятия) со старообрядцев. В этой связи рассмотрение некоторых страниц истории старообрядчества в Орловской губернии позволит взглянуть на церковный раскол более независимо и широко.
Старообрядчество, церковный раскол, единоверие, часовня
Короткий адрес: https://sciup.org/170164969
IDR: 170164969
Текст научной статьи География расселения и динамика численности старообрядцев (Орловская губерния, первая половина XIX в.)
С момента возникновения церковного раскола старообрядчество разделилось на два основных течения: поповство (бег-лопоповство) и беспоповство. Поповцев в большей степени можно признать близкими к православию. Они сохранили все 7 христианских таинств и признают необходимость священников при обрядах и богослужениях. Беспоповцы не признают духовенство, поскольку убеждены, что старое истреблено Никоном, а новое не является священным. Таким образом, из всех христианских таинств были оставлены только исповедь и крещение, так как они по необходимости могут совершаться мирянами.
Проблемой подсчёта количества старообрядцев в императорской России стали заниматься с середины XVIII в., после того как стало ясно, что это явление не удастся искоренить при помощи радикальных мер, которыми пользовались царевна Софья и Пётр I. В XIX в. Александр I проводил довольно либеральную политику в отношении старообрядцев. 18 августа 1811 г. Александр I приказал: «Всем начальникам губерний собрать сведения, сколько в которой находится старообрядцев, и ведомости о них доставлять ежегодно к 1-му января и 1-му июля министру полиции».
АБАКУМОВ Станислав Николаевич – аспирант кафедры истории России Орловского государственного университета
К сожалению, документальных сведений о количестве старообрядцев по Орловской губернии за этот период пока обнаружить не удалось. Вероятно, это было связано с тем, что подобный подсчёт велся в строжайшей секретности, без всякой огласки, во избежание конфликтных ситуаций. Судя по всему, подобных сведений не было и у П.И. Мельникова-Печерского. В своём труде «Счисление ра-скольников»1 он ссылается на данные по губерниям лишь с 1826 г., т.е. начиная с эпохи Николая I. Император Николай I интенсивно проводил политику силового подавления религиозного разномыслия: деятельность среди староверов, беглых иереев попадает под строжайший запрет. Усилиями духовных и светских властей начинается интенсивное насаждение единоверия. Старообрядческие часовни и церкви передаются единоверцам.
С 1826 г. появляются первые официальные данные о численности уклонивши хся в раскол по каждой губернии и по России в целом.
Согласно этим сведениям, старообрядцев, приемлющих священство, в Орловской губернии на тот момент проживало разного пола 7 033 чел., не приемлющих священство – разного пола 644 чел. Таким образом, всего в Орловской губернии на начало правления Николая I насчитывалось 7 677 старообрядцев разных согласий. Всего же по России в 1826 г. проживало 827 721 старообрядцев разного пола и разных согласий и толков1.
Данные за 1827 г. несколько отличаются от сведений 1826 г. Так, в 1827 г. в Орловской губернии насчитывалось 7 838 староверов разного пола и согласия. Из этого количества старообрядцев, приемлющих священство, насчитывалось: разного сословия м. п. – 1 863, ж. п. – 1884, бывших помещичьих крестьян м. п. – 898, ж. п. – 869. Старообрядцев, не приемлющих священства: разного сословия м. п. – 970, ж. п. – 1 122, бывших помещичьих крестьян м. п. – 70, ж. п. – 162.
На первый взгляд, цифры вполне закономерные: происходит увеличение количества старообрядцев за счёт недовольных помещичьим произволом крестьян. Однако в то же время здесь видно и уменьшение количества старообрядцев, приемлющих священство. Согласно документальным материалам, поповцы были распространены в основном в губернском городе Орле, где у них было своё общество, старшинами которого являлись известные орловские купцы. Если сравнить сведения орловского городского полицейского управления о количестве старообрядцев по г. Орлу за 1827 г. с официальными данными Министерства внутренних дел по Орловской губернии за тот же год, то можно выявить довольно интересную картину. В 1827 г. орловский полицмейстер представил губернатору сводки по численности старообрядцев в городе. Согласно этим цифрам в Орле проживало старообрядцев, приемлющих священство, разных сословий м. п. 1 715 чел. и ж. п. 1 760 чел.2 В то же время беспоповцев в Орле было всего 70 чел. разных сословий мужского и женского пола. В Министерство внутренних дел, как видно выше, поступила другая информация.
Из этой информации следует, что из губернии за один только год «в другие места жительства» выехало сразу 1 519 попо-вцев. Этого быть не могло, поскольку многие поповцы являлись известными орловскими купцами, у которых были свои давно сложившиеся источники дохода и имущество. Так просто всё бросить и уехать неизвестно куда – мало бы кто решился. Предположить, что сразу такое большое количество староверов, даже менее радикально настроенных, присоединилось к православной церкви или же просто умерли, также наивно.
Остаётся предположить, что 1 519 попо-вцев присоединились к единоверию, учреждённому в 1800 г. Однако если сопоставить данные орловского городского полицейского управления по одному лишь губернскому городу Орлу, то и эта версия отпадает. Из документов орловского городского полицейского управления можно почерпнуть сведения о количестве старообрядцев, которые приняли единоверие. В 1827 г. Министерство внутренних дел потребовало эту информацию, чтобы узнать, как продвигается дело со сближением староверов с господствующей церковью. По этим сведениям, «в городе Орле единоверческое общество, существование коего дозволено на основании представленных от покойного Московского митрополита Платона и Высочайше утверждённых 27 октября 1800 г. пунктов, имеется; участвующих в оном состоит… 3 450 душ, церквей при оных не имеется, а существует… каменная часовня… и моленная де-ревянная»3.
Можно предположить, что в столице были удовлетворены таким ответом, однако можно заметить явные нестыковки в этом документе с реальными событиями.
Во-первых, нигде, ни в одном раннем или позднем документе, не встречается упоминание о том, что у орловского единоверческого общества до 40-х гг. XIX в. имелись молитвенные здания. Здесь же упоминается сразу два: каменная часовня и деревянная, что не может не вызывать сомнения в правдивости этих слов. Учитывая, что у орловского старообрядческого поповского общества на начало XIX в. имелось две часовни, а именно каменная и деревянная, то можно предположить, что именно об этих молитвенных зданиях орловский губернатор и сообщил в Петербург, «превратив» старообрядцев в единоверцев.
Во-вторых, вызывает сомнение и численность единоверцев. Всего в Орле их было, согласно документам, «м. п. 1700 и женска 1750 душ…, а всего обоего пола 3450 душ»1. Однако и старообрядцев-беглопо-повцев на тот момент в Орле имелось примерно столько же. В том же 1827 г. орловский губернатор запросил сведения у полицмейстера о численности старообрядцев в Орле. Оказалось, что старообрядцев, приемлющих священство, м. п. – 1 715, а ж. п. – 1760. Таким образом, разница в количестве между единоверцами и старообрядцами-поповцами всего 25 чел. В связи с этим можно предположить, что либо орловский губернатор слукавил и отправил в столицу неверные сведения, чтобы выслужиться, либо сами староверы после учреждения единоверия объявили о своём переходе в единоверческое общество, чтобы отвести от себя взгляды властей.
Количество беспоповцев, представленное в Министерство внутренних дел, также неоправданно занижено. Согласно сведениям из орловского городского полицейского управления, в 1827 г. в Орле имелось общество старообрядцев беспопо-вцев-филипповцев. Всего в нём насчитывалось 39 беспоповцев м. п. разных сословий и 31 – ж. п. Орловские филиппо-вцы располагались как в своих собственных домах, так и в доме своего наставника Григория Акимовича Ситникова (он же Радин). По всей вероятности, орловскому губернатору были поданы сведения о количестве филипповцев, которые непосредственно проживали в доме Ситникова. Остальные беспоповцы, имеющие жительство в собственных домах и посещающие моленную Г.А. Ситникова лишь для молений, подсчитаны не были. П.И. Мельников-Печерский объясняет это просто: «полицейские управления обыкновенно придерживаются цифры предыдущих годов, убавляя её понемножку», боясь показать истинные сведения о числе старообрядцев. Именно поэтому количество филипповцев по Орлу было занижено, как минимум, в два раза, а если следовать объяснениям Мельникова-Печерского, то, возможно, и в несколько раз.
Теперь обратимся к подсчёту староверов-беспоповцев по всей губернии. Н. Вара- динов в своей работе «История Министерства внутренних дел» признаёт, что подсчёты старообрядцев по всем губерниям и по России в целом не соответствуют действительности. «Не подлежит сомнению, что они неполны, что количество совратившихся из православия здесь уменьшено против действительности».
Это можно подтвердить и документально. Орловский епархиальный миссионер Александр Георгиевский в начале XX в. указывал на то, что в Кромском уезде три деревни – Колчевские Выселки, Большая Колчевка и Речица «окончательно отпали от Православной Церкви в первой четверти XIX в. и до последнего времени были сплошь заселены старообрядцами»2. Количество староверов-беспоповцев в каждом из этих населённых пунктов значительно превышало общее официальное число беспоповцев, представленное в Министерство внутренних дел в 1826 и в 1827 гг. В 1850-х гг. в Кромском уезде насчитывалось около 2 800 беспоповцев. И это только Кромской уезд.
Официальные сводки по Орловской губернии на протяжении всего XIX в. постоянно указывают на цифру, равную примерно 7 000 чел. старообрядцев разного пола и сословия. Вероятно, эта цифра неточна. В то же время нельзя сказать, что истинное количество старообрядцев по губернии было несоизмеримо больше.
Таким образом, учитывая все эти факторы, общее количество «явных» старообрядцев в губернии во времена правления Николая I можно увеличить примерно в 2 раза, но наиболее вероятной сегодня представляется цифра в 10–11 тыс. чел. обоего пола разных сословий. Число же «тайных» староверов пока не представляется возможным выявить.
История старообрядчества в XIX в. ярко проиллюстрировала, что одними запретами и преследованиями старообрядчество можно лишь сплотить и укрепить. Старообрядцы вместе со своими требоис-правителями и попами уходили в глухие места, где впоследствии распространялось беспоповство.