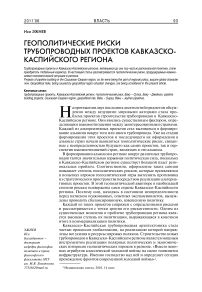Геополитические риски трубопроводных проектов Кавказско-Каспийского региона
Автор: Эжиев Иса Багаудинович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Экспертиза
Статья в выпуске: 6, 2011 года.
Бесплатный доступ
Проекты строительства трубопроводов в Кавказско-Каспийском регионе, являвшиеся до сих пор частью региональной политики, стали приобретать глобальный характер. В настоящей статье рассматриваются геополитические риски, продуцируемые изменениями геополитической ситуации в регионе.
Проекты строительства трубопроводов, кавказско-каспийский регион, геополитический риск, баку - супса, баку - джейхан
Короткий адрес: https://sciup.org/170165894
IDR: 170165894
Текст научной статьи Геополитические риски трубопроводных проектов Кавказско-Каспийского региона
Н а протяжении двух последних десятилетий предметом обсуждения между ведущими мировыми акторами стала проблема проектов строительства трубопроводов в Кавказско-Каспийском регионе. Они явились существенным фактором, определяющим взаимоотношения между заинтересованными странами. Каждый из альтернативных проектов стал выливаться в формирование альянсов вокруг того или иного трубопровода. Уже на стадии формирования этих проектов и последующего их оформления в альянсы стран начали выявляться геополитические риски, связанные с неопределенностью будущего как самих проектов, так и перспектив взаимоотношений стран, входящих в эти альянсы.
В формировании альянсов в регионе вокруг различных трубопроводов таится значительная взрывная политическая сила, поскольку в Кавказско-Каспийском регионе существует большой пласт региональных проблем. Соответственно, оформление таких союзов повышает степень геополитических рисков, которые проявляются в попытках игроков геополитической игры вытеснить противника из стратегического пространства посредством реализации альтернативных проектов. В этой геополитической авантюре в наибольшей степени рискам подвержены сами страны Кавказско-Каспийского региона. Поэтому они, находясь в состоянии неопределенности перед натиском подкованных, опытных экспансионистов, вынуждены проводить сбалансированную, взвешенную политику.
Каждый из таких проектов сопряжен с определенными рисками и рассматривается с точки зрения его рискогенности. Одним из существенных моментов в проблеме трубопроводов региона является высокая степень их политизации, выражающаяся в конечном итоге в коммерциализации политики.
ЭЖИЕВ Иса
Кавказско-Каспийская трубопроводная архитектоника стала частью процессов глобализации, на реализацию которой направлены все усилия и ресурсы мировых полюсов. Строительство новых трубопроводов в Кавказско-Каспийском регионе является мощным инструментом реализации полярных политических и экономических интересов геополитических игроков в регионе. «Вместо военных атрибутов классической холодной войны на сцене появляется инфраструктура. Именно господство над ней и определяет сегодня прохождение фронтов современной холодной войны»1.
Особенностью трубопроводной войны, начавшейся в Кавказско-Каспийском регионе после распада СССР, стала борьба по созданию транспортных коммуникаций в обход территории России. Риск использования Россией поставок энергоносителей в качестве политического инструмента заставляет Запад искать все возможности для диверсификации источников углеводородов и маршрутов их транспортировки.
Первым серьезным шагом в поисках альтернативных маршрутов транспортировки углеводородов стало строительство нефтепровода Баку – Супса, которое было осуществлено под эгидой Азербайджанской международной операционной компании. Серьезным толчком к созданию трубопровода Баку – Супса стали подписанные в 1994 г. соглашения о разработке месторождений Азери-Чираг и глубоководной части Гюнешли1.
Участие Грузии в этом проекте уже на начальной стадии его реализации выявило очевидные риски, которые проявляются на ее территории. Уже в середине 1990-х гг. власти Абхазии использовали энергокоммуникационный фактор для укрепления своих позиций в регионе.
Абхазская дипломатия выбрала вариант обращения к ведущим мировым нефтяным компаниям, вовлеченным в проекты строительства нефтепровода Баку – Супса. Основным лейтмотивом обращения стал призыв к отказу от инвестиционных вложений в проекты строительства трубопроводов, которые проходят по грузинской территории2. В качестве серьезного аргумента абхазская сторона апеллировала к высоким политическим рискам в регионе, где существует угроза новой войны между Абхазией и Грузией. При этом абхазы в своих обращениях предупреждали, что в условиях тлеющего конфликта с Грузией они оставляют за собой право «на полное разрушение нефтепроводной инфраструктуры в Грузии»3. Опасения абхазов были вызваны тем, что Грузия может использовать доходы от транзита нефти в возмож- ной войне с Абхазией4. В качестве альтернативы грузинскому проекту представители Абхазии предлагали собственный вариант строительства нефтепровода через свою территорию – вдоль черноморского побережья. Однако и в этом случае отсутствует гарантия безопасности транспортировки нефти. Сам факт того, что Грузия и Абхазия находятся в состоянии войны, создает серьезные региональные риски и никакие альтернативные транзиты как с одной, так и с другой стороны не смогут их минимизировать, пока окончательно не определится политико-правовой статус Абхазии.
С точки зрения стратегических рисков, связанных с трубопроводом Баку – Супса, необходимо учитывать, что грузинские порты Поти, Кулеви и Супса с их нефтяными терминалами находятся на расстоянии артиллерийского выстрела с территории Абхазии.
Одним из стратегических нефтяных проектов стал трубопровод Баку – Джейхан. Правительства Азербайджана и Турции заключили соглашение о строительстве этого нефтепровода, который соединяет Баку с турецким портом Джейхан. К этому проекту подключилась и Грузия, по территории которой и будет проходить эта нефть.
О нерентабельности и экономической нецелесообразности этого проекта за последнее десятилетие написано немало работ. Однако все они однозначно сходились на том, что трубопровод Баку – Джейхан является сугубо политическим продуктом США, направленным на снижение зависимости от транспортных коммуникаций России. По расчетам некоторых экспертов, кратчайшую сухопутную и экономичную ветку из Азербайджана в Турцию следовало бы проложить по территории Ирана или Армении, что существенно снизило бы ее стоимость и повысило эффективность. Такой путь считался более предпочтительным и потому, что в будущем он позволил бы продвинуться в южном направлении и выйти к иранским нефтяным терминалам в районе Абадана и на острове Харк. Высказывается также мнение, что армянское направление, помимо сугубо экономических выгод, могло бы способствовать прогрессу в деле урегулирования карабахского конфликта, особенно если трубопровод прошел бы через территорию Нагорного Карабаха1.
Что касается вопроса об экономической целесообразности прохождения маршрута по территориям Армении и Ирана, то вполне можно согласиться с мнением экспертов. Однако следует учитывать серьезные армяно-азербайджанские противоречия из-за проблемы Нагорного Карабаха, а также отчужденность в армяно-турецких отношениях в связи со стремлением Армении добиться от Турции признания геноцида армян. В этом вопросе существенное значение имеет также то, что Армения является стратегическим союзником России в регионе. Поскольку нефтепровод Баку – Джейхан задумывался изначально как антироссийский проект, то никаких шансов на прокладку этого трубопровода по армянской территории нет и не было. Участие в проекте Баку – Джейхан Ирана, считающегося враждебной США и Западу страной, также стало неуместным по геополитическим соображениям. Маловероятным представляется также суждение о том, что прохождение этого трубопровода по территории Нагорного Карабаха урегулировало бы армяно-азербайджанские отношения. Напротив, это не только не будет способствовать решению этой проблемы, но, возможно, будет продуцировать новые риски, связанные с этим проектом.
Еще одной зоной риска на этом маршруте считается участок на территории Турции, где компактно проживает курдское население. Однако, несмотря на существование рисков в этом районе, Запад не проявляет особого беспокойства по этому поводу, поскольку все процессы, связанные с действиями курдского повстанческого движения, управляются извне, т.е. теми, кто заинтересован в реализации в т.ч. и данного проекта.
Уже на стадии разработки этого проекта было очевидны риски, связанные с возможностями Азербайджана обеспечить полноценное наполнение этого трубопровода для удовлетворения потребностей западных партнеров. У российских и даже у зарубежных нефтяников, которые лоббировали строительство данного нефтепровода, существовали большие сомнения в том, что Баку с каждым годом будет значительно повышать нефтедобычу. Другим рискогенным фактором в этом проекте, связанным с возможностью активной доразведки и разработки блока, остаются азербайджано-иранские споры по поводу его южной части и не урегулированный до конца из-за позиции Ирана правовой статус Каспия.
Поэтому основные надежды на достижение рентабельности основного экспортного трубопровода (ОЭТ) начали связывать с нефтью Казахстана. С самого начала появления этого проекта на Казахстан оказывается разностороннее давление, включая дипломатическое со стороны США и ЕС.
Еще в середине 90-х гг. XX в. Казахстан стал вводить принцип многовекторности в политику строительства трубопроводов. Так, Астана не стала отказываться от предложений Анкары, и уже в совместной декларации «О дальнейшем развитии и углублении сотрудничества между Казахстаном и Турцией», подписанной в 1995 г., говорится, что «обе стороны будут продолжать сотрудничество, нацеленное на технические, финансовые и другие аспекты строительства трубопровода к Средиземному морю через территорию Турции для того, чтобы доставить казахскую нефть на мировой рынок»2.
Одним из факторов глобального риска, согласно теории геополитического риска, является экологическая опасность. С точки зрения экологической безопасности при транспортировке нефти на танкерах из Новороссийска и Супсы через пролив Босфор в Средиземное море существуют большие риски загрязнений. Маршрут же Баку – Джейхан проходит по суше в обход Босфора и Дарданелл. Это является весомым аргументом в пользу трубопровода Баку – Джейхан, поскольку исключает риски загрязнения морских вод. Вместе с тем риски экологических катастроф (например, на Босфоре 14 марта 1994 г., когда греко-кипрский танкер «Нассия» столкнулся с зарегистрированным в греческой части Кипра грузовым морским судном «Шип брокер»1) продуцируют другие риски, связанные с изменением существующих международно-правовых режимов судоходства. Так, 1 июля 1994 г. Турция в одностороннем порядке ввела новый регламент судоходства в черноморских проливах, ограничивающий проход крупнотоннажных нефтяных танкеров. Этот регламент, как утверждает турецкая сторона, направлен на снижение риска катастроф и предусматривает введение так называемой неограниченной страховки, обязывающей иностранные суда при нанесении по их вине вреда окружающей среде полностью компенсировать экологический ущерб. Регламент, введенный Турцией в одностороннем порядке, нарушает правила, установленные Конвенцией Монтре в 1936 г. Поэтому изменение существующих международно-правовых норм не дает гарантии безопасности реализации того или иного проекта.
Существенным фактором, ограничившим углеводородные поставки по трубопроводу Баку – Джейхан, стали события августа 2008 г., выявившие уязвимость данного маршрута и, соответственно, геополитические риски в связи с войной между Россией и Грузией. Военные действия обнаружили серьезную угрозу для инфраструктуры по транспортировке нефти. В период военных действий поступала противоречивая информация, имеющая отношение к данному маршруту. МИД Грузии заявил, что российская авиация 9 августа нанесла удар по международному нефтепроводу Баку – Тбилиси – Джейхан. Российский МИД эту информацию отрицал. Тем не менее государственная нефтяная компания Азербайджана (ГНКАР) в субботу, 9 августа, приостановила транзит нефти через грузинские порты в Батуми и Кулеви2. Хотя официальный Тбилиси пытался обвинить Россию в подрыве нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан, представители компании ВР сообщили, что атак со стороны российских военных не было3.
Несмотря на то что никакой бомбардировки нефтепровода Баку – Тбилиси – Джейхан не было, война в непосредственной близости от прохождения этого маршрута продемонстрировала повышенную степень рисков поставки каспийских углеводородов в западные страны. Маленькая победоносная война на территории Южной Осетии и продвижение российских войск в глубь грузинских тер-риторий4 заставили европейцев и страны-поставщики вновь задуматься над рисками использования грузинской территории при реализации ряда международных проектов в нефтегазовой сфере.
Война в Южной Осетии обнажила сущность трубопроводных войн, начавшихся в конце ХХ столетия между Россией и Западом. Наряду с решением проблемы Южной Осетии, Россия в какой-то мере заставила Запад переориентировать транспортировку каспийской нефти на российские маршруты. В результате во время военных действий полноценно работали только российско-азербайджанский нефтепровод Баку – Новороссийск, а также российско-казахстанские маршруты КТК и Атырау – Самара.
Таким образом, апогеем войны трубопроводов между Россией и Западом, начавшейся в конце ХХ в., стали военные события в Южной Осетии и занятие российскими войсками территорий, по которым проходят ключевые грузинские магистрали. Военные действия фактически блокировали транспортировку каспийской нефти и газа по прозападным трубопроводам Баку – Джейхан, Баку – Супса и Баку – Эрзерум. Это заставило Запад по-новому оценить геополитические риски в отношении транспортировки каспийских углеводородов по этим маршрутам. И хотя российская сторона своими действиями не повредила ни один из этих международных трубопроводов, сам факт дислокации российских военных в районах их прохождения создал ситуацию глобального риска. Эти события обнаружили кризисные моменты в отношениях России как со странами-поставщиками и транзитерами, так и с государствами, заинтересованными в транспортировке каспийских углеводородов в обход российской территории.