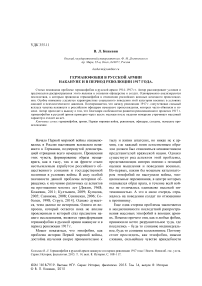Германофобия в русской армии накануне и в период революции 1917 года
Автор: Кожевин Владимир Леонидович
Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology
Рубрика: Российская история
Статья в выпуске: 8 т.14, 2015 года.
Бесплатный доступ
Статья посвящена проблеме германофобии в русской армии 1914-1917 гг. Автор рассматривает условия и предпосылки распространения этого явления в сознании офицерства и солдат. Одновременно анализируются последствия, к которым приводила германофобия в отношении российских военных немецкого происхождения. Особое внимание уделяется характеристике социального поведения этой категории военных в условиях санкций и психологического давления. Подчеркивается, что началу революции 1917 г. сопутствовал сильный всплеск чувства ненависти к российским офицерам немецкого происхождения, которых часто обвиняли в измене. Автор приходит к выводу о том, что благодаря особенностям развития революционного процесса 1917 г. германофобия в русской армии примерно через шесть месяцев после падения монархии утрачивает массовый характер и сходит на нет.
Германофобия, армия, первая мировая война, революция, офицеры, солдаты, немецкое происхождение
Короткий адрес: https://sciup.org/147219418
IDR: 147219418 | УДК: 355.11
Текст научной статьи Германофобия в русской армии накануне и в период революции 1917 года
Начало Первой мировой войны ознаменовалось в России настоящим всплеском ненависти к Германии, подчеркнутой демонстрацией отрицания всего немецкого. Проявления этих чувств, формирование образа немца-врага, как в тылу, так и на фронте стали неотъемлемым атрибутом российского общественного сознания и государственной политики в условиях войны. В силу особой значимости данной проблемы историки обращались к изучению различных ее аспектов на протяжении многих лет [Дякин, 1968; Кожевин, 2011; Култышев, 2009; Купцова, 2005; Савинова, 2008; Сенявская, 2006; Соболев, 1998; Струп, 2014]. Однако думается, тема далеко не исчерпана. Одним из вопросов, который остается пока не вполне проясненным и который стал предметом нашего исследования, является трансформация германофобии в русской армии накануне и в период революции 1917 г.
Может показаться, что этнофобия, как проблема истории Первой мировой войны, достойна изучения скорее применительно к тылу и жизни штатских, но никак не к армии, где каждый воин естественным образом должен был становиться ненавистником представителей вражеской нации. Однако существует ряд аспектов этой проблемы, представляющих интерес именно с позиций оценки мышления и поведения военных. Во-первых, каким бы мощным катализатором этнофобий не выступали войны, эмоциональные переживания, в центре которых оказывался образ врага, в течение всей войны не отличались одинаково высокой интенсивностью. А это в свою очередь отражалось на поведении солдат по отношению к противнику.
Еще одна сторона проблемы заключается в неоднозначности последствий распространения массовых этнофобий в воющих армиях. Помимо прочего они, как и любые фобии, привносили нечто разрушительное туда, где поселялись – будь то сознание индивидуальное, будь то сознание коллективное. Поэтому стоит проследить, как этнофобия, иными словами, сильнейшее чувство враждебности
Кожевин В. Л. Германофобия в русской армии накануне и в период революции 1917 года // Вестн. Новосиб. гос. ун-та. Серия: История, филология. 2015. Т. 14, вып. 8: История. С. 108–117.
ISSN 1818-7919. Вестник НГ”. Серия: История, филология. 2015. Том 14, выпуск 8: История
к определенной национальной общности, базирующееся на негативно окрашенных образах ее представителей, влияла на самих носителей этого чувства, на структуры, в рамках которых она получала простор для существования, например на состояние армии. Для истории же русской армии, кроме того, важно установить, как проявил себя в данном психологическом контексте фактор разразившейся революции.
Вторая половина лета 1914 г. была временем, когда в России стал складываться образ немца как жестокого, хитрого и вероломного врага. Острое неприятие «чужого» основывалось на реальных либо искусственно приписываемых германскому этносу атрибутах, на предельно широком комплексе черт, охватывавших образ жизни, поведение, систему ценностей и даже внешний вид лиц данной национальности. Особенно ощутимо германофобия в период войны сквозила в умонастроениях жителей городов, что, как известно, обернулось погромами и прочими антигерманскими акциями.
Порыв ненависти к врагу объединил социальные низы и представителей образованного общества. В литературных, философских и публицистических произведениях начального этапа войны русская интеллигенция не просто «благословляла» вооруженное столкновение славянства и германского мира, но нередко она поддерживала открытые проявления германофобии. Исключительно ярко эта интенция проявилась в стихотворении Бориса Садовского «Перед германским посольством». Поэт, впечатленный действиями толпы, которая при погроме немецкого посольства в Петрограде 22 августа 1914 г. сбросила с крыши здания скульптурную группу – античных юношей, ведущих под уздцы лошадей, торжественно восклицал: «Пади, германский гладиатор! Останови коней, тевтон!» [1915. С. 271].
Все эти настроения передавались и армии. Более того, образ врага, формируемый общественным сознанием, у военных словно удваивал свою значимость. Он должен был служить сильнейшим мотивирующим фактором поведения любого, кто, вступая в бой, ежедневно рисковал собственной жизнью либо жизнью вверенных ему подчиненных. Конечно, в сонме голосов, требовавших скорее истребить коварного врага и наделявших его всеми мыслимыми человеческими пороками, голос русских германофобов не был одинок. Этнические фобии приняли массовый характер и широко распространились в сознании других воюющих наций – французов, немцев, англичан, австрийцев и т. д. Их армии также поддерживали боевой дух в значительной степени за счет культивирования безудержной ненависти к народам, выступавшим в роли военного противника. Такова уж тривиальная закономерность войн, происхождение которой объясняется просто.
Пожалуй, можно говорить о том, что острая враждебность к «немцу», охватившая умы русских в ходе Первой мировой войны, по преимуществу оказывалась ситуативной. Во всяком случае, это не был плод длительного взаимодействия наций на протяжении многих десятилетий или веков. Как свидетельствуют результаты специальных исследований, и в городской народной культуре (она же в смысле восприятия «немца» оказывала решающее воздействие на деревню), и в сознании образованной части общества представления о «немце» не связывались с чувствами недоверия, отвращения или страха.
«В XVIII–XIX вв., – отмечает С. В. Оболенская, – в отношении к немцам различение “своего” и “чужого”, конечно, существует, образа врага нет» [1991. С. 182]. Немецкий историк К. Вашик утверждает, что «антигерманские образы врага в дореволюционной России почти не были распространены». «Это было следствием того, – поясняет исследователь, – что Германия была для России длительное время положительным культурным ориентиром, и немецкая культура и немецкий язык имели высокую степень значимости для дореволюционной интеллигенции, а также вследствие значительного немецкого экономического присутствия и, не в последнюю очередь, семейных связей царской семьи и немецко-балтийского дворянства с Германией» [2005. С. 196]. В. В. Чурзин, характеризуя настроения русских в первые дни войны, подчеркивает: «Война с немцами воспринималась как противоестественное дело для подданных империи, потому что Германия всегда была союзницей, Германия была первым торговым партнером. Здесь трудно было разжечь патриотизм, здесь нужно было предпринять какие-то искусственные меры, что и было сделано. В частности, немецкие зверства в Калише, убийство русских военнопленных немцами – все это было описано в тонах, разжигающих антинемецкие настроения. Тому же служили меры, принятые по отношению к немецкому населению в самой Российской империи, начиная от ограничения в правах экономической деятельности и до национализации немецкой собственности» [Выступление В. В. Чурзина, 2014. С. 208].
Возникает закономерный вопрос: если накануне войны русские солдаты и офицеры не испытывали острой неприязни к немцам, а, следовательно, антигерманские настроения не имели глубинных оснований в коллективном сознании военных, то не обуславливало ли это обстоятельство возникновения некоей неоднозначной комбинации чувств, определявшей восприятие немца-врага в период вооруженного противостояния народов?
Документы личного происхождения содержат любопытный материал, свидетельствующий, что в момент мобилизации отношение чинов русской армии к немцам было своеобразным. Больше доверяясь собственному опыту, нежели пропаганде со стороны, нижние чины из крестьян отправлялись на фронт с чувством веселого любопытства либо фаталистической покорности, беспокойства об оставленных семьях. Однако глубинная психологическая установка – уничтожить врага, потому что он немец – в сознании основной массы солдат пока отсутствовала. Похожая ситуация возникала иногда и в случаях соответствующей рефлексии представителей образованной части общества. Так, в самом начале войны вольноопределяющийся из студентов В. Арамилев запишет в дневнике: «Подал рапорт с просьбой об отправке на фронт с первой маршевой ротой. Я не сочувствую войне. Ненависти в сердце не имею ни против немцев, ни против австрийцев <…> Кажется, меня влечет на фронт любопытство. Хочется видеть войну воочию» [1930. С. 71].
Но столкновение с противником на поле боя меняло настроения русских военных. Кроме того, свою роль в подъеме германофобии играла пресса, а также усилия офицеров, формировавших образ немца-врага в сознании нижних чинов. В итоге проявления острой ненависти к немцам стали свершившимся фактом уже вскоре после начала войны. Так, в одном из писем с фронта, датированном ноябрем 1914 г., говорится: «Солдаты веселы и сердиты. Если попадется немец – несдобровать. Казаки разъезжают на своих конях как средневековые рыцари и наводят панический страх на немцев. Солдаты на немцев <…> ужасно злы. Негодуют на немцев, во-первых, за то, что они напрасно проливают кровь и, во-вторых, за их зверства и разрушения и, в-третьих, за то, что они заточили герцогиню Люксембургскую. Хотят (солдаты) освободить ее и дать ей Георгиевский крест» [Письма с войны…, 2015. С. 111].
По всей вероятности, германофобия среди офицерства была менее распространена, нежели в солдатской массе. В данной связи представляется весьма существенным следующее замечание историка П. Г. Култыше-ва: «С началом войны ежедневный контакт русского офицера с неприятелем должен был привести к четкой фокусировке образа противника. Но этого не произошло. В большинстве использованных источников их авторы воздерживаются от подробной характеристики неприятеля обычными “человеческими” качествами. В их сознании противник крайне абстрактен и выступает в большей степени как противоборствующая сторона, облаченная в военно-стратегические и тактикотехнические понятия. Помимо этого, ни один из европейских противников не вызывал у офицеров в массовом порядке ни гнева, ни злости. В ряде воспоминаний можно подметить отчасти спокойное, терпимое отношение к неприятелю, ставшему таковым по воле сильных мира сего» [2009. С. 148].
В любом случае, будь то сознание нижних чинов либо офицерства, германофобия среди русских военных не была необъяснимым и необычным явлением. Здесь важным, однако, оказывалось другое обстоятельство. Если на поле сражения русские солдаты и офицеры без колебаний проливали кровь противника, иногда во время горячей схватки вообще не брали пленных, то в более или менее спокойной, безопасной обстановке к поверженному противнику, как свидетельствует ряд документов, проявлялось вполне гуманное и даже благожелательное отношение. «Удивляюсь незлобливости русского солдата, – читаем в письме прапорщика-фронтовика, датированном мартом 1916 г. – Тут они враги с австрийцами, а попадется кто-нибудь из австрияков в плен, так наш солдат себе откажет, а ему даст и поесть, и покурить» [Письма с войны…, 2015. С. 169].
Свою специфику в годы войны в армии и на флоте приобрел вопрос об отношении к «своим» немцам – лицам немецкого происхождения и людям, носившим фамилии, которые либо действительно являлись, либо воспринимались как немецкие. Что касается государственной политики в этом вопросе, решение проблемы осуществлялось путем удаления немцев – российских подданных с театра военных действий, где происходило непосредственное вооруженное противостояние с Германией и Австро-Венгрией. В особенности это касалось немцев-колонистов, которые призывались в ряды русской армии в качестве нижних чинов. Мобилизованных немцев еще с осени 1914 г. стали отправлять на Кавказ. С начала 1915 г. военное ведомство предприняло шаги по изъятию из войсковых частей Северо-Западного и Юго-Западного фронтов российских солдат-немцев и переброске их на Кавказский фронт. Процесс этот усилился после тяжелых поражений русской армии весной–летом 1915 г. Причем, как подчеркивает И. И. Шульга, в основной массе данный контингент распределялся не по боевым частям, а по запасным и ополченским бригадам, рабочим ротам Кавказского военного округа. Таким образом, взятие Эрзерума в феврале 1916 г. частями, состоявшими практически из одних российских немцев, по справедливому мнению автора, не более чем легенда [2008. С. 39–40].
Иначе складывалась ситуация относительно офицеров немецкого происхождения, служивших в рядах русской армии. Количество офицеров-немцев, включая лиц православного вероисповедания, традиционно отличалось довольно высоким процентом от общей численности ее командного состава. Особенно велика в процентном отношении была доля генералов. Согласно данным А. А. Мелен-берга, накануне Первой мировой войны (исследователь учитывал только национальный признак, исключая шведов, финнов и представителей других народов, которые благодаря своей фамилии либо вероисповеданию в бытовом обиходе армии могли причисляться к немцам) в составе генералитета русской армии каждый пятый был немцем по происхождению [1998. С. 130].
В период войны офицерство немецкого происхождения не было затронуто официальными санкциями власти, исключая лишь крайне незначительную группу остзейских немцев, служивших в частях, непосредственно располагавшихся в прибалтийском районе боевых действий. Так, в начале 1917 г. с Северного фронта подлежали перемещению на другие фронты (Кавказский, Юго-Западный, Румынский) 22 офицера с немецкими фамилиями 3. Причем основанием для перевода служил не просто соответствующий национальный признак, а более серьезный мотив. Так? в рапорте командира 2-го Прибалтийского конного полка полковника Ф. В. Вин-берга от 6 декабря 1916 г., направленного командующему 1-й Прибалтийской отдельной конной бригадой? говорилось:
«Прошу ходатайства Вашего Превосходительства о переводе из вверенного мне полка в другую часть прапорщика Болто фон Гогенбаха.
До сих пор он представлялся мне довольно безобидным остзейским немцем, да и теперь, в отношении его специальной остзейской “лояльности” никаких подозрений иметь я не имею основания. Причина моей просьбы основывается на том, что до сего числа старый штаб-офицер полка подполковник Дегергольм (уроженец Финляндии. – В. К. ) мне доложил, что на этих днях между офицерами 2 эскадрона затеялся спор по поводу войны, причем прапорщик Болто в этом споре высказывал большие симпатии к своим сородичам – нашим врагам и тоном своим оскорбил Русское чувство остальных офицеров.
Нисколько не подозревая прапорщика Болто в основных чувствах его воинской чести <…> считал бы желательным перевод означенного офицера из нашего полка, стоящего как раз в Прибалтийском крае, куда-нибудь на Кавказ» 4.
Впрочем, фактор происхождения так или иначе отражалcz и на положении генералов-немцев. Например, когда перед русской Ставкой в марте 1915 г. стоял вопрос о назначении нового главнокомандующего армиями Северо-Западного фронта, из двух кандидатов – генералов П. А. Плеве и М . В. Алексеева, предпочтение было отдано русскому по происхождению генералу. По этому поводу начальник штаба Верховного главнокомандующего Н. Н. Янушкевич писал военному министру В. А. Сухомлинову: «Масса жалоб, пасквилей и т. д. на то, что немцы <…> изменники и что немцам дают ход, а равно и настроение по письмам военной цензуры <…> побудили в. к. (великого князя) отказаться от первоначальной мысли о П. А. (Плеве) и остановиться на человеке с русской фамилией» [Переписка В. А. Сухомлинова…, 1923. С. 44].
Российские офицеры-немцы по-разному реагировали на проявления германофобии. Одни не придавали этому серьезного значения. Некоторые, подчеркивая свой патриотизм, меняли немецкие фамилии на русские. Среди таковых были даже генералы, например генерал-майор А. А. Рейнбот, взявший фамилию Резвой, и генерал-майор К. К. Шильдбах, ставший Литовцевым (по названию лейб-гвардии Литовского полка, которым он командовал).
Нередко офицеры и генералы с немецкими фамилиями проявляли демонстративное участие в православных ритуалах, переходили в православие, отказываясь от прежнего вероисповедания. Штабс-капитан, журналист, историк литературы М. К. Лемке оставил целый ряд свидетельств подобного поведения генералов-немцев. Одна из зарисовок, относящаяся к ноябрю 1915 г., касается командующего Западным фронтом Алексея Ермолаевича Эверта. Во время обеда в штабе фронта Эверт «входит… не торопясь, важно походит к генеральскому столу и становится на свое место. Тогда штабной поп читает молитву, благословляет на все стороны столы, и после того все садятся. Замечательная черта нашей служилой братии: как только человек по своей фамилии может быть заподозрен в неправославии, так он усиленно подчеркивает свое православное благочестие» [Лемке, 1920. С. 258].
Другие записи (1916 г.) посвящены генералам Н. Э. Бредову и П. А. Плеве. «Будучи лютеранином, – писал автор о Бредове, – он ходит на все православные службы и молится с монашеской истовостью». А вот другая запись в дневнике М. К. Лемке: «28 марта (1916 г. – В. К. ) в Москве умер генерал от кавалерии Плеве. Накануне он пожелал присоединиться к православию, что и совершил священник Богословский» [Там же. С. 556, 685].
Что касается отношений офицерства и нижних чинов, то вопрос о российских немцах приобрел особенно болезненные формы в свете поражений русской армии и затяжной войны. Как и следовало ожидать, во всех неудачах винили «внутреннего» врага. Офицеры с немецкими фамилиями в первую очередь попадали под подозрение; их все больше рассматривали либо как потенциальных, либо действительных пособников противника.
Так, «недовольство матросов офицерами немецкого происхождения» фиксировали соответствующие правительственные службы на Балтике, считая его одной из причин волнений, возникших среди моряков в 1915 г. [Волнения во флоте…, 1925. С. 102]. По данным военной цензуры, относящимся к началу 1917 г., на Северном и Западном фронтах нижние чины не только с недоверием относились к лицам с немецкими фамилиями, но и заявляли о бесполезности войны до тех пор, пока не исчезнет так называемое «немецкое засилье» по всей России [Русская армия…, 1918. С. 155]. Накануне революции 1917 г. в сознании солдатских масс стало укореняться мнение, что сама верховная власть поражена недугом потворства немцам и предательства. Окопная молва не щадила даже императрицу, не говоря уже о лицах из окружения Николая II – «немецких советчиках», которые, как считалось, и были виновны во всех бедах России. Неслучайно в одной солдатской песне, записанной на ЮгоЗападном фронте, были такие строки:
«Много пало наших братьев,
Много крови пролилось За немецкое начальство, Что в России развелось»
[Падучев, 2014. С. 34].
В период февральско-мартовских революционных событий 1917 г. усилившаяся в армии и на флоте германофобия привела к насилиям и обвинениям в измене десятков российских офицеров-немцев. В Луге 1 марта жертвами самосуда разъяренных солдат пали четыре офицера, среди которых оказался и начальник сборного пункта кавалерийских частей генерал Менгден. Он и еще двое офицеров (полковник Эгерштром (Эгерст-рем), граф Клейнмихель), по свидетельству очевидца офицера Н. В. Вороновича, были арестованы солдатами и содержались в одном помещении. Из рассказа Вороновича следует, что все трое, вероятно, остались бы живы, если бы один из них, полковник Эгерштром, не утратил выдержки, отвечая угрозами на злые насмешки находившихся поблизости нижних чинов [1991. С. 311]. По версии В. Н. Звегинцова, вначале был убит Менгден, а затем на место его гибели привели Эгерштрома и Клейнмихеля, где их ждала та же участь. Причем накануне случившегося под окнами канцелярии Менгде-на раздавались крики: «Арестовывай офицеров-немцев! Давай сюда изменников!» [1966. С. 44–46].
Историк русской гвардии Е. И. Чапкевич в своей книге к списку погибших в Луге офицеров добавляет еще и графа де Броэля-Платтера – помощника генерала Менгдена. Подчеркивая, что погибшие в Луге и пригородах Петрограда офицеры-гвардейцы имели фамилии, которые либо походили на немецкие, либо действительно были таковыми, автор писал: «В этом проявилась типичная ксенофобия, принявшая в стихийном общественном сознании антинемецкую направленность. И хотя многие из убитых были по происхождению шведами, финнами или обрусевшими немцами, для толпы было вполне достаточно наличия нерусской фамилии, чтобы подвергнуть их носителей насилию» [Чапкевич, 2003. С. 169].
Мы бы поостереглись называть упомянутые эксцессы проявлением «типичной» ксенофобии. Здесь речь может идти скорее о ксенофобии (точнее этнофобии) «революционной». Как уже говорилось выше, накануне 1917 г. в армейских низах зрело убеждение о колоссальном влиянии «немецкой партии» при дворе, о пагубном воздействии немцев на политику власти. Таким образом, обрушивая свой гнев на офицеров с немецкими фамилиями, солдаты и матросы воспринимали это не только как акт справедливого возмездия в отношении «изменников», но и как реальный вклад в устранение главных приспешников погибающего на их глазах старого режима.
Другой всплеск антиофицерских настроений, окрашенный тонами «революционной» германофобии, произошел 3 марта 1917 г. на Черноморском флоте. Матросы линкора «Императрица Екатерина II» потребовали убрать с судна офицеров с немецкими фамилиями, обвиняя их в пособничестве противнику. Прибыв на линкор, командующий флотом адмирал А. В. Колчак в резкой форме выступил перед построенной командой и решительно пресек распространение неоправданных обвинений. Затем адмирал установил контакты с представителями команд, высказавшись в поддержку новой власти.
В условиях начавшейся революции то, о чем солдаты ранее говорили только в узком кругу, становится предметом публичного обсуждения. Среди острых вопросов, которые волновали нижних чинов, был на первых порах и вопрос об офицерах с немецкими фамилиями . Так, рядовой Голубев в письме в Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, помеченном 10 марта 1917 г., говорит о недовольстве солдат многими начальниками, а главное – генералом Эвертом, и обращается с просьбой: «Товарищи, уберите немцев с фронта, отстраните их от командования, дайте нам русских Начальников, русских душой, глубоко любящих свою родину и верящих в великую силу ея. Этим вы сделаете великое дело» 5.
Любопытно, что военный и морской министр Временного правительства А. И. Гучков поспешил воспользоваться волной «революционной» германофобии в целях укрепления дисциплины и восстановления доверия солдат к офицерам. В воззвании от 9 марта 1917 г., адресованном солдатам, он заявлял: «Много немецких шпионов, скрываясь под серой солдатской шинелью, мутят и волнуют вашу среду. Верьте своим офицерам» [Воззвания…, 1917. С. 154].
Конечно, когда после первых баталий революции шпиономания и страсти вокруг вопроса о германском «засилье» в армии несколько улеглись, офицеры с немецкими фамилиями могли чувствовать себя в большей безопасности. И тем не менее напряженность в их отношениях с нижними чинами сохранялась. Поэтому весной 1917 г., как и с началом мировой войны, среди офицеров появились желающие сменить иностранные фамилии на русские. Впрочем, масштаб этого поветрия был не столь велик, как прежде, и коснулось оно, судя по всему, лишь младшего начальствующего состава. Так, в бумагах Военной комиссии Государственной думы сохранился документ, свидетельствующий о намерении штабс-капитана Кирхмана, прапорщиков Прейсферда и Вольфберга получить русские фамилии. Комиссия, не имевшая полномочий на подобные решения, 1 апреля 1917 г. переправила полученные еще в марте рапорты и приложенные к ним метрические выписки в штаб Петроградского военного округа 6.
По мере того как развивался революционный процесс в России и интернационалистские идеи, лозунг демократического мира благодаря усилиям социалистов разных оттенков захватывали сознание солдатских масс, «революционная» германофобия в армии шла на убыль. Практика массового братания на фронте весной 1917 г. со всей очевидностью подтвердила наличие этой тенденции. В данной связи укажем на любопытный поворот мышления солдат одной из воинских частей, отраженный документами Петроградской военно-цензурной комиссии в апреле 1917 г.: «Воевать не хотят и советуют товарищам бросать оружие, уходить из окопов, не стрелять в немцев, так как это противоречит христианскому учению» [Письма с войны…, 2015. С. 747].
Жесткая антигерманская риторика, граничащая с этнофобией, оказывается неактуальной и для официальной власти. И. Г. Соболев справедливо заметил: «Временное правительство постепенно даже перестает упоминать о “немецком засилье”» [1998. С. 3].
Примечательно, что уже в июле 1917 г. прекращает свое существование и Особый комитет по борьбе с немецким засильем. Таким образом, можно говорить, что волна германофобии в России сходит на нет в середине–конце лета того же года. Даже масштабная пропагандистская кампания по обвинению большевиков в получении германских денег и шпионаже в пользу противника не смогла изменить ситуации, по крайней мере, в армии.
Рецидивы германофобии, конечно, еще имели место, но скорее это происходило по инерции. Приведем сведения о случае, произошедшем в конце лета 1917 г. на далекой окраине России, который, как представляется, хорошо иллюстрирует общую картину. Канонир 11-й роты 4-го Владивостокского артиллерийского полка Иван Лаптев 5 августа направил во Владивостокский Совет рабочих и военных депутатов заявление, где говорилось о вопиющем положении дел во Владивостокском военно-цензурном пункте. Автор писал: «Допустима ли работа лиц, носящих русскую военную форму и открыто исповедующих хорошие воззрения на Германию и не скрывающих восторга и радости при поражении русской армии нашим врагом Германией. Можно ли доверить работу, т. е. чтение и проверку разного рода корреспонденции людям душою и сердцем – немцам, как Андерс, Ворм и другие, так как до войны они были немцами, а как Россия объявила войну Германии, то они переделались в латышей и эстонцев» 7.
Из этого же письма становится ясно, что Лаптев проработал в цензурном учреждении 10 месяцев и был удален с теплого местечка за растрату. Судя по тому, что 23 августа Лаптев написал новое заявление, в котором обвинил члена Совета, заведующего командой воинских чинов военно-цензурного пункта прапорщика Андрющенко в ревностной защите ратников-немцев 8, на первое послание канонира какой-либо реакции со стороны Совета не последовало. Нам не известно, как развивались дальнейшие события, но очевидно, что дело, которое отстаивал автор упомянутых документов, уже не имело шансов на успех.
Наконец, следует процитировать небольшой отрывок из статьи «”Почетный мир” Германии», опубликованной в 1917 г. в 5-м номере официального органа Военного министерства – журнале «Военный сборник». Война еще продолжалась, но автор А. Ганнибал писал о Германии так, как будто никакой войны просто нет: «Германия всегда пользовалась в России, если не любовью, то уважением. Русские, знакомые с наукой и литературой Германии, с ее культурными центрами, с трудолюбивой и просвещенной буржуазией, смотрели с уважением на добросовестного немецкого рабочего» [1917. С. 87]. Трудно представить появление такого текста в военном официозе России еще в начале 1917 г.
Приведенные факты свидетельствуют, что вторая русская революция, начало которой сопровождалось мощным всплеском германофобии, правда уже ослабленной в отношении военного противника и нацеленной по преимуществу на «своих» немцев, похоронила чувство ненависти к немцам как массовое явление примерно через полгода после падения монархии. Для русской армии в итоге это стало одной из причин роста антивоенных настроений, падения дисциплины и боевого духа солдат.
Список литературы Германофобия в русской армии накануне и в период революции 1917 года
- Арамилев В. В дыму войны. Записки вольноопределяющегося (1914-1917 гг.). Л.: Молодая гвардия, 1930. 340 с.
- Вашик К. Метаморфозы зла: немецко-русские образы врага в плакатной пропаганде 30-50-х годов//Образ врага. М., 2005. С. 191-229.
- Воззвания военного министра//Разведчик. 1917. № 1374-1375. С. 154-155.
- Волнения во флоте в 1915 г.//Красный архив. 1925. Т. 2 (9). С. 94-103.
- Воронович Н. В. Записки председателя Совета солдатских депутатов//Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. М., 1991. С. 296-336.
- Выступление В. В. Чурзина//Маленький человек и большая война в России: середина XIX -середина XX в.: Материалы междунар. коллоквиума (Санкт-Петербург, 17-20 июня 2013 г.). Секция 3. Дискуссия. СПб., 2014. С. 208.
- Ганнибал А. «Почетный мир» Германии//Военный сборник. 1917. № 5. С. 87-101.
- Дякин В. С. Первая мировая война и мероприятия по ликвидации так называемого немецкого засилья//Первая мировая война. 1914-1918. М., 1968. С. 227-238.
- Звегинцов В. Н. Кавалергарды в великую и гражданскую войну, 1914-1920 год. Париж: Танаис, 1966. Ч. 3-4. 206 с.
- Кожевин В. Л. Российское офицерство и Февральский революционный взрыв. Омск: Изд-во ОмГУ, 2011. 260 с.
- Култышев П. Г. Образ немца как противника в сознании русского офицерства в годы Первой мировой войны//Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. Экономика. Информатика. 2009. № 15 (70). С. 147-152.
- Купцова И. В. Образ врага в сознании художественной интеллигенции в годы Первой мировой войны//Военно-историческая антропология. Ежегодник, 2003/2004. Новые научные направления. М., 2005. С. 276-286.
- Лемке М. 250 дней в царской Ставке (25 сентября 1915 -2 июля 1916). Пг.: Госиздат, 1920. 860 с.
- Меленберг А. А. Немцы в российской армии накануне Первой мировой войны//Вопр. истории. 1998. № 10. С. 127-130.
- Оболенская С. В. Образ немца в русской народной культуре XVIII-XIX вв.//Одиссей. Человек в истории. М., 1991. С. 160-185.
- Падучев В. Записки нижнего чина. 1916 год.
- Оськин Д. Записки прапорщика. М.: Изд-во ГПИБ России, 2014. 464 с.
- Переписка В. А. Сухомлинова с Н. Н. Янушкевичем//Красный архив. 1923. Т. 3 (3). С. 27-74.
- Письма с войны 1914-1917/Сост., коммент. и вступ. ст. А. Б. Асташова и П. А. Симмонса. М.: Новый хронограф, 2015. 800 с.
- Русская армия накануне революции//Былое. 1918. № 1 (29). С. 150-157.
- Савинова Н. В. Российский национализм и немецкие погромы в России в годы Первой мировой войны (1914-1917 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 2008. 25 с.
- Садовский Б. Перед германским посольством//Современная война в русской поэзии. Пг., 1915. С. 271.
- Сенявская Е. С. Противники России в войнах XX века: Эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М.: РОССПЭН, 2006. 288 с.
- Соболев И. Г. Борьба с «немецким засильем» в России в годы Первой мировой войны: Автореф. дис. … канд. ист. наук. СПб., 1998. 18 с.
- Струп К. «Война и культура»: «Маленькие люди» и создатели негосударственной пропаганды войны, 1914-1917 гг.//Маленький человек и большая война в России: середина XIX -середина XX в.: Материалы Междунар. коллоквиума (Санкт-Петербург, 17-20 июня 2013 г.). СПб., 2014. С. 184-197.
- Чапкевич Е. И. Русская гвардия в Первой мировой войне. Орел, 2003. 192 с.
- Шульга И. И. Немцы Поволжья в российских вооруженных силах: воинская служба как фактор формирования патриотического сознания. М.: Междунар. союз нем. культуры, 2008. 176 с.