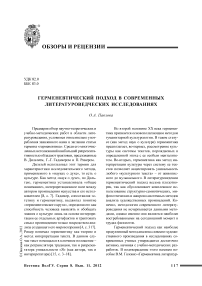Герменевтический подход в современных литературоведческих исследованиях
Бесплатный доступ
Короткий адрес: https://sciup.org/14975233
IDR: 14975233 | УДК: 82.0
Текст обзорной статьи Герменевтический подход в современных литературоведческих исследованиях
ББК 83.0
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД В СОВРЕМЕННЫХ ЛИТЕРАТУРОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
О.А. Павлова
Предваряя обзор научно-теоретических и учебно-методических работ в области литературоведения, условимся относительно употребления заявленного нами в заглавии статьи термина «герменевтика». Среди его многочисленных истолкований наибольшей репрезентативностью обладают трактовки, предложенные В. Дильтеем, Г.-Г. Гадамером и П. Рикером.
Дильтей использовал этот термин для характеристики исследовательского метода, применяемого в «науках о духе», то есть о культуре. Как метод «наук о духе», по Диль-тею, герменевтика устанавливала «общее понимание», интерпретационное поле между автором произведения искусства и его истолкователем [8, с. 7]. Гадамер, сопоставляя эстетику и герменевтику, выдвигал понятие «герменевтического круга», определяя его как способность человека выявлять и обобщать знания о культуре лишь на основе интерпретации ее отдельных артефактов и трактовать смысл произведения только посредством анализа создавшего его мировоззрения [4, с. 317]. Рикер понимал герменевтику как теорию и метод интерпретации текста. В данном случае текст помещался в ключевое положение – как ретранслятора традиции, так и репрезентатора уникальности «Я» (как автора, так и интерпретатора) [15, с. 3–18].
Во второй половине ХХ века герменевтика признается основополагающим методом гуманитарной культурологии. В таком статусе (как метод наук о культуре) герменевтика предполагает, во-первых, рассмотрение культуры как системы текстов, порождаемых в определенной эпохе с ее особым менталитетом. Во-вторых, герменевтика как метод интерпретации культуры через систему ее текстов позволяет акцентировать уникальность любого «культурного текста» – от живописного до музыкального. В литературоведении герменевтический подход весьма плодотворен, так как обусловливает комплексное использование структурно-семиотических, мифопоэтических и жанрово-системных методов анализа художественных произведений. Конечно, методология современного литературоведения не исчерпывается данными методами, однако именно они являются наиболее востребованными на сегодняшний момент в трудах филологов.
Герменевтический подход как наиболее продуктивный метод анализа словесно-художественного произведения в исследованиях современных ученых утверждается достаточно активно, начиная с учебно-методических разработок. В подтверждение этого назовем пособие В.М. Головко «Герменевтика литератур- ного жанра» Пособие написано в соответствии с требованиями государственного стандарта третьего поколения. Анализируя современное состояние жанрологии, В.М. Головко последовательно доказывает теоретическую целесообразность герменетивтического подхода к жанру, подключая к этому процессу научный авторитет М.М. Бахтина. «Понимающее бытие» литературного жанра освещается в герменевтической парадигме, что дает автору возможность «рассмотреть соприродность его “частей” и “целого”, обосновать необходимость установления отношений между пониманием и интерпретацией в процессе изучения жанровой специфики художественных произведений» [6, с. 2]. И в то же время жанрово-герменевтический подход позволяет проанализировать произведение в его уникальности, единичности в мировом интерпретационном контексте.
Понятие «текст» в герменевтике трактуется широко – это весь мир культуры как «второй» природы, созданный человеком. В связи с этим быт человека также может быть рассмотрен как текст, как ценностносмысловое семиотическое пространство. Именно такой нетривиальный подход к словесному творчеству через призму быта (или поэтики повседневности) содержится в изысканиях И.А. Манкевича и Ю.А. Федосюка.
И.А. Манкевич в работе «Поэтика обыкновенного: опыт культурологической интерпретации» обращается к истории литературы, культуры и быта России XIX – начала XX века. Ученый анализирует функционирование текстов повседневности в континууме социальной коммуникации. При этом для исследования берутся тексты, порожденные литературной и внелитературной реальностями. И.А. Манкевич демонстрирует, как возникшие в результате социальной коммуникации новые формы находят развитие и в бытовой жизни, и в литературе [13].
Работа Ю.А. Федосюка (1920–1993) содержит принципиально иной подход к поэтике повседневности. Он давно был известен своими многочисленными москвоведческими публикациями, в числе которых путеводители «Бульварное кольцо», «Лучи от Кремля», «Москва в кольце Садовых». Ю.А. Федосюк был знатоком московского, истинно русского, образа жизни. Монография Ю.А. Федосюка
«Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта ХХ века» – особенное, даже редкостное исследование. И уникальность его в том, что данная книга содержит грандиозный исследовательский материал, отражающий в забытых, непонятных современникам словах исконную русскую культуру. Потрясает широта охвата русской классики: автор берет примеры из известных произведений отечественной литературы XVII– XX веков [17].
Однако исследование русской классики через призму поэтики быта предстает вполне традиционным литературоведческим изысканием при сравнении с материалами книги доктора филологических наук, историка, фольклориста и культуролога К.А. Богданова. Само название книги «Из истории клякс. Филологические наблюдения» отражает эпатажность ее содержания. Данная монография предстает классическим образчиком постмодернистской эпистемы в литературоведении, характерными чертами которой являются смысловая и композиционная эклектика, смешение «высокого» и «низкого» дискурсов культуры, хаотичная композиция и пародирование традиций и канонов. В свете этого, исследуя «феномен неумышленной порчи текста случайными кляксами», К.А. Богданов в один ряд ставит «как ученические тетради, так и редкие манускрипты, музыкальные партитуры, рукописи и живописные полотна» и «демонстрирует взаимосвязь культурной метафизики, идеологии и эмоций» [2, с. 3].
Работы, о которых мы говорили, различны по стилистике, качеству исполнения и по многим другим параметрам. Но – при всем их различии – они едины в самой направленности исследовательской рефлексии, аннулирующей в сознании исследователей границу между вымышленным и реальным миром. Это отнюдь не «издержки» герменевтического подхода, предлагающего все в культуре рассматривать как систему текстов. Такова специфика современной реальности рубежа XX–XXI веков – эпохи высоких информационных технологий в духовно-интеллектуальном знании, бриколлажа и монтажа в творчестве, в том числе и в словесно-художественном.
В связи с этим весьма значимым с точки зрения методологии изучения современного искусства предстает исследование К. Абдуллаевой «Игровое / неигровое». Автор осмысливает пограничное пространство и взаимообмен между игровым и документальным в кино, театре, литературе. Особенно ученого интересует ситуация, сложившаяся в искусстве начала III тысячелетия, когда сознательно размываются границы между фактом и вымыслом, между условно-художественным и реально-наличным бытием. Впрочем, сама книга К. Абдуллаевой – яркий пример такого «пограничья», хотя в данном случает более уместно сказать «синтеза». Синтеза добротного эстетического исследования и публицистики, так как в книгу, в которой проанализированы многочисленные художественные произведения, фильмы, спектакли, включены беседы автора с А. Васильевым, С. Братковым, У. Зайдлем, В. Манским, Л. Рубинштейном [1].
Блестящий пример продуктивности и целесообразности использования герменевтического и структурно-семиотического подходов в парадигме классического литературоведения дает работа российско-американского филолога, профессора Университета Южной Калифорнии А.К. Жолковского «Очные ставки с властителем. Статьи о русской литературе». Данная книга посвящена исследованию русской литературы в контексте мировой классики. Рассмотрены «тексты» русского и мирового фольклора, Библии, Платона, Свифта, Корнеля, Бомарше, Гофмана, Рассела, Кун-деры, Пушкина, Лермонтова, Достоевского, Толстого, Лескова, Чехова, Бунина, Аверченко, Ахматовой, Мандельштама, Заболоцкого, Зощенко, Платонова, Набокова, Булгакова, Каверина, Солженицына, Синявского-Терца, Аксенова и Искандера. Сосредоточив внимание на одном из мотивов произведения, А.К. Жолковский дает системный анализ данного мотива, рассматривая его во взаимодействии нескольких уровней – таких, как семантика, художественная структура произведения, интерпретационный контекст. Центральными в анализе А.К. Жолковского являются понятия художественной конструкции, литературных мотивов и их устойчивых наборов, а также семантика отличий в трактовке данных мотивов разными авторами [9].
При герменевтическом подходе к тексту произведений актуальным является анализ социокультурной мифологии эпохи. Она выступает и как интерпретационный контекст для осмысления произведения, и как семантическое поле, выражающее глубинные (ментальные) смыслы и ценности определенного исторического времени. Эти смыслы всегда «заложены» в произведении, содержащем авторскую (особенную или даже уникальную) трактовку эпохальной мифологии. Поэтому ни одно литературоведческое изыскание, посвященное интерпретации художественного произведения через призму мифологических структур, не обходится без «подключения» методологии исследования коллективного бессознательного. И здесь подлинным корифеем анализа мифологических структур в их сакральной и профанной ипостасях предстает выдающийся религиовед ХХ века, основатель Чикагской школы религиоведения М. Элиаде. Его научному творчеству посвящена монография А.А. Горохова «Феноменология религии М. Элиаде» [7].
С исследованием об элиадовском религиоведении методологически перекликается книга С.А. Глузмана «Ментальное пространство России», в которой разрабатывается «вековая» философская проблема «русской идеи». Автор исходит из того, что русское мировоззрение, русские искусство, культура и политика базируются на западной и восточной социокультурной мифологии. Квинтэссенцией западной мифологии предстает возникший еще в античном Риме миф «вечного города», ставший впоследствии идеологической основой европейской цивилизации. Восточная мифология восходит к Библии и реализуется в мифе Священной книги. В России эти два направления мировой социокультурной мифологии слились в едином потоке, что обусловило уникальность российской культуры [5].
Нередко при характеристике ментального пространства культуры за «точку отсчета» берется, например, эмоциональное мироотно-шение, в концепции исследователя разрастающееся до уровня социокультурной мифологемы. Речь идет о книге шведской исследовательницы К. Юханнисон «История меланхолии. О страхе, скуке, чувствительности в прежние времена и теперь». В характеристике феномена меланхолии она раскрывает уязвимые стороны души западного человека. Свои рассуждения о том, какую роль играет меланхолия в западной культуре, К. Юханни-сон иллюстрирует многочисленными примерами из жизни и литературы. Среди героев книги – Франц Кафка, Вирджиния Вулф, Марсель Пруст и другие [19].
Классический подход к феноменологии социокультурной мифологии предлагают в своих книгах А. Ливри [12], И.А. Кребель [11] и Н.А. Боломолов [3].
А. Ливри в монографии «Физиология Сверхчеловека, или Введение в третье тысячелетие» ставит в центр своих рассуждений мифологему сверхчеловека. Через призму мифологемы «сверхчеловек» в работе проводятся концептуальные параллели между двумя рубежами в отечественной культуре и выделяются следующие черты, свойственные как XIX–XX векам, так и XX–XXI векам: тотальный кризис, индивидуализм, разделение этического и эстетического в жизни не только художника, но и обычного человека. Но перечень имен, персоналий, к которым обращается исследователь, довольно бессистемен: Пушкин, Ницше, Булгаков, Набоков, Достоевский [12].
Оригинальный взгляд на литературу рубежа XIX–XX веков предлагает И.А. Кребель в книге «Мифопоэтика Серебряного века». Автор правомерно исходит из того, что Серебряный век – это время, в котором именно способ миропонимания объединяет и сплачивает людей, принадлежавших к разным профессиям и культурным дискурсам. В работе справедливо доказано, что мифологемы Серебряного века продуцировались не только в среде философов-профессионалов, но во всех видах искусства – начиная от литературы и театра и заканчивая музыкой и балетом. Иными словами, мифопоэ-тику Серебряного века порождал не столько особый способ мышления, сколько «те концептуальные установки творчества, которые проступают в поэтическом, живописном, музыкальном языке, языке тела, жеста и танца» [11, с. 3]. В работе убедительно доказано, что «эмоционально-чувственная мысль» Серебряного века нацелена на то, чтобы «вызывать сопричастность реальности, благодаря чему сама реальность становится домом, космосом, в котором каждая вещь... имеет свое имя, смысл ее приобретает статус живого мира и остается заветным» [там же, с. 4]. Говоря другими словами, в искусстве Серебряного века размыва- ется граница между условным и реальным, слово приравнивается денотату и обретает статус креативного начала, творящего новую реальность, притязающую на онтологический статус, из одной только номинации.
В книгу Н.А. Богомолова «Вокруг Серебряного века» вошли работы разных лет. Книга состоит из трех разделов. В первом рассмотрены общие вопросы изучения русской литературы рубежа XIX–XX веков, а также включены воспоминания о М.Л. Гаспарове, В.Н. Топорове и статья о научном творчестве З.Г. Минц. Во второй части публикуются материалы по истории русского символизма. Они посвящены как творчеству его корифеев – В.Я. Брюсову, К.Д. Бальмонту, Ф. Сологубу, так и малоизвестных авторов – таких, как Ю.К. Балтрушайтис, М.Н. Семенов, круг издательства «Гриф». В третьем разделе опубликованы материалы о постсимволизме и авангарде; сделаны интересные проекции на последующее развитие искусства в 1950–1960-е годы [3].
Современные литературоведческие работы носят, как правило, комплексный характер. И проявляется эта комплексность не только в методологии, но и в выборе предмета исследования. Аналитическая рефлексия ученых в последнее время направлена на достаточно емкие проблемы, связанные с анализом направления, эпохи, социокультурной мифологемы и проч. Монографическое описание творчества одного автора – персоналии – уже становится редкостью, тем не менее, встречается среди современных работ. Рассмотрим некоторые из них.
Книги С.И. Степанова и А. Полонского объединяет особый подход к творчеству писателя – через призму религии, а точнее, через призму влияния религиозных текстов на поэтику писателя.
С.И. Степанов в монографии «О мире видимом и невидимом в произведениях М. Булгакова» характеризует поэтику романов «Мастер и Маргарита», «Белая гвардия» и повестей «Собачье сердце», «Роковые яйца» с точки зрения религиозных и мистических аспектов творчества писателя. Для полноты интерпретационного контекста исследователь привлекает черновики и дневниковые записи писателя, его эпис-толярий, высказывания близких людей и современников, духовную литературу [16].
Лауреат Серебряной Тютчевской медали Международного Пушкинского фонда «Классика» А. Полонский в книге «Федот Тютчев. Книга бытия» дает целостную картину творческого пути поэта-философа в контексте влияния на него Святого Писания, а также философских произведений Гете и поэзии немецкого романтизма, эзотерических, космических и неортодоксально религиозных по своей сути [14].
Книга А.К. Жолковского «Поэтика Пастернака» включает двадцать четыре статьи и представляет собой практически полное собрание пастернакововедческих работ критика. Будучи верным структуралистскому подходу, А.К. Жолковский в традициях лингвистической поэтики рассматривает темы, мотивы и предметы, образующие художественный мир автора; дает монографический анализ стихотворений; а также интертекстуальную подоплеку пастернаковских текстов [10].
Монографический анализ творчества А. Платонова с точки зрения герменевтики дает утопиолог, специалист в области мифо-поэтики Х. Хюнтер. Его книга «По обе стороны утопии: Контексты творчества А. Платонова» охватывает весь корпус сочинений писателя. Характеризуя закономерности эволюции платоновского мировоззрения, Х. Хюнтер анализирует отношение писателя к жанру утопии в его позитивной и негативной разновидностях. Концептуальный центр книги составляет двойная проекция творчества А. Платонова. С одной стороны, в монографии прослежены переклички Платонова с его предшественниками – от средневековых мистиков до Ф. Достоевского, Н. Федорова. С другой – творчество писателя анализируется в контексте современной ему культуры [18]. При этом в научной рефлексии Х. Хюнтера утопия правомерно и аргументированно рассматривается как литературный миф, структурно восходящий или к архетипам, или к социокультурной мифологии эпохи, базировавшейся на де-сакрализованных архетипических структурах.
Таким образом, в современном литературоведении доминирует комплексный метод исследования произведений, концептуально связанный с герменевтическим подходом к культуре как системе текстов.
Список литературы Герменевтический подход в современных литературоведческих исследованиях
- Абдуллаева, К. Игровое/неигровое/К. Абдуллаева. -М.: НЛО, 2011. -480 с.
- Богданов, К. А. Из истории клякс. Филологические наблюдения/К. А. Богданов. -М.: НЛО, 2012. -216 с.
- Богомолов, Н. А. Вокруг Серебряного века. Статьи и материалы/Н. А. Богомолов. -М.: НЛО, 2010. -720 с.
- Гадамер, Г.-Г. Истина и метод/Г.-Г. Гадамер; пер. с нем.; общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. -М.: Прогресс, 1988. -704 с.
- Глузман, С. А. Ментальное пространство России/С. А. Глузман. -М.: Алетейя, 2010. -322 с.
- Головко, В. М. Герменевтика литературного жанра: учеб. пособие/В. М. Головко. -М.: Флинта: Наука, 2012. -184 с.
- Горохов, А. А. Феноменология религии М. -Элиаде/А. А. Горохов. -М.: Алетейя, 2011. -160 с.
- Дильтей, В. Собрание сочинений в 6 т. Т. 4. Герменевтика и теория литературы/В. Дильтей; под ред. А. В. Михайлова и Н. С. Плотникова. -М.: Дом интеллектуальной книги, 2001. -689 с.
- Жолковский, А. К. Очные ставки с властителем. Статьи о русской литературе/А. К. Жолковский. -М.: РГГУ, 2011. -637 с.
- Жолковский, А. К. Поэтика Пастернака. Инварианты, структуры, интертексты/А. К. Жолковский. -М.: НЛО, 2011. -608 с.
- Кребель, И. А. Мифопоэтика Серебряного века/И. А. Кребель. -М.: Алетейя, 2010. -592 с.
- Ливри, А. Физиология Сверхчеловека, или Введение в третье тысячеление. Пушкин, Ницше, Булгаков, Набоков, Достоевский -жрецы Диониса/А. Ливри. -М.: Алетейя, 2011. -312 с.
- Манкевич, И. А. Поэтика обыкновенного: опыт культурологической интерпретации/И. А. Манкевич. -М.: Алетейя, 2011. -712 с.
- Полонский, А. Федор Тютчев. Книга бытия/А. Полонский. -М.: Алетейя, 2011. -416 с.
- Рикер, П. Герменевтика. Этика. Политика/П. Рикер. -М.: Прогресс, 1995. -462 с.
- Степанов, С. И. О мире видимом и невидимом в произведениях М. А. Булгакова. Разруха в головах/С. И. Степанов. -М.: Алетейя, 2011. -292 с.
- Федосюк, Ю. А. Что непонятно у классиков, или Энциклопедия русского быта ХХ века/Ю. А. Федосюк. -М.: Флинта: Наука, 2012. -264 с.
- Хюнтер, Х. По обе стороны утопии: Контексты творчества А. Платонова/Х. Гюнтер. -М.: НЛО, 2012. -216 с.
- Юханнисон, К. История меланхолии. О страхе, скуке, чувствительности в прежние времена и теперь/К. Юханнисон. -М.: НЛО, 2012. -320 с.