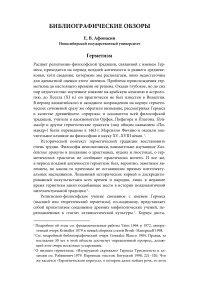Герметизм. "халдейские оракулы" (библиографические обзоры)
Автор: Афонасин Евгений Васильевич
Журнал: Schole. Философское антиковедение и классическая традиция @classics-nsu-schole
Рубрика: Библиографические обзоры
Статья в выпуске: 2 т.1, 2007 года.
Бесплатный доступ
Два библиографических очертания этой темы, подготовленные Евгением Афонасиным из Центра древней философии и классической традиции (Новосибирский государственный университет), касаются, соответственно, герметизма и халдейских оракулов.
Короткий адрес: https://sciup.org/147103557
IDR: 147103557
Текст обзорной статьи Герметизм. "халдейские оракулы" (библиографические обзоры)
Расцвет религиозно-философской традиции, связанной с именем Гермеса, приходится на период поздней античности и раннего средневековья, хотя сведения, которыми мы располагаем, явно недостаточны для адекватной оценки этого явления. Проблема происхождения гер-метизма до настоящего времени не решена. Оказав глубокое, но до сих пор недостаточно изученное влияние на арабскую алхимию и астрологию, до Пселла (XI в.) он практически не был известен в Византии. В период византийского и западного возрождения на корпус герметических сочинений сразу же обратили внимание, рассматривая Гермеса в качестве древнейшего «пророка» и основателя всей философской традиции, учителя и вдохновителя Орфея, Пифагора и Платона. Пой-мандр и другие герметические трактаты (под общим названием «Пи-мандр») были переведены в 1463 г. Марсилио Фичино и оказали значительное влияние на философию и науку XV–XVIII веков 1.
Исторический контекст герметической традиции восстановить очень трудно. Философы неоплатоники, внимательно изучавшие Халдейские оракулы и писавшие о христианах, иудеях и гностиках, о герметических трактатах не сообщают практически ничего. И все же, в период поздней античности герметизм был, вероятно, заметным явлением, по каким-то причинам не оставившим прямых интеллектуальных наследников. Лишенный исторических корней и дискредитированный оккультистами всех времен и народов, лишь в недавнее время герметизм занял подобающее место в истории позднеантичной интеллектуальной традиции 2.
Религиозно-философское учение связанное с именем Гермеса (высший или теоретический герметизм), по-видимому, представляет собой прихотливое соединение древних мифологических учений, переплавленных в «тигле» эллинистической культуры 3. Корпус доста- точно разнородных герметических сочинений, написанных по-гречески и дошедших до нас как единое целое в средневековых рукописях, состоит из семнадцати трактатов. Сохранился также латинский перевод трактата Logos teleios, получивший называние «Асклепий» и дошедший до нас в составе произведений платоника и ритора II в. Апулея. Кроме того, мы располагаем сорока герметическими текстами и фрагментами, сохранившимися в составе Антологии Стобея 4, герметическими текстами, обнаруженными в составе гностической библиотеки из Наг Хаммади, «Определениями» в переводе на армянский язык и венскими фрагментами 5. В целом эти тексты перекликаются с гностическими и неоплатоническими трактатами, носят выраженный эсхатологический характер и учат откровенному знанию (гносису), обладание которым ведет к духовному совершенству, однако в отдельных случаях для прояснения смысла сказанного приходится привлекать алхимические и астрологические сочинения (позднеантичные, арабские и византийские) и магические папирусы 6.
Герметический корпус издан Ноком по 28 рукописям, причем некоторые из них содержат не все трактаты. Примечательно, что две полных рукописи включают в себя также замечание византийского философа Михаила Пселла (XI в.), который хвалит автора Поймандра за позицию, близкую к библейской космологии. Вполне вероятно, что эта ремарка была призвана защитить герметические тексты от огня христианской критики 7. С этой же целью герметический корпус подвергся редактированию византийскими переписчиками, что ныне создает сложности для адекватной оценки его содержания, в частности не позволяет ответить на вопрос о том, насколько значительным было влияние так называемого «теоретического» герметизма на «практический» и наоборот.
До XI в. корпуса в современном его виде, по-видимому, не существовало, хотя отдельные трактаты были известны уже в III в. н. э., а Стобей, составивший свою Антологию в V в., наряду с иначе не известными фрагментами, цитировал трактаты II, IV и IX и Асклепий . Кирилл Александрийский (ум. в сер. V в.) знал XI и XIV трактаты корпуса и какие-то другие сочинения, которые вместе составляли 15 книг, называемых Hermaika . Маловероятно, что эти книги и были известным нам корпусом, однако это доказывает, что какое-то собрание герметических текстов имело хождение уже в его время. Вторым или третьим веками (а возможно, и более ранним периодом) датируются так называемые Венские фрагменты, в которых также содержатся ссылки, позволяющие предположить наличие собрания текстов. Наконец, переписчик Коптской гностической библиотеки из Наг Хамма-ди (датируемой сер. IV в.) говорит, что ограничился копированием лишь нескольких герметических текстов из числа многих, ему известных. Писатели второго века Афинагор Афинский и Филон из Библа знали имя «Трисмегист». Первым христианским автором, упомянувшим текст, приписываемый Гермесу, был Тертуллиан (нач. III в.), а неизвестный автор Увещевания к язычникам («псевдо-Юстин») привел цитату из дошедшего до нас герметического трактата. Неоплатоники до Ямвлиха герметическими текстами не интересовались, возможно потому, что не отличали их от критикуемых Плотином гностических трактатов (ср. Порфирий, Жизнеописание Плотина 16). Рассуждения о Гермесе в Египетских мистериях Ямвлиха (1.1.1–2; 2.5–6 и др.) слишком общие, чтобы на их основании можно было сказать что-либо определенное о бытовании наших текстов в его время 8. Напротив,
Лактанций (кон. III – нач. IV в.) с одобрением цитировал герметические тексты, в том числе и дошедшие до нас, например Асклепий , причем он знал его по-гречески, а цитируемый им латинский текст отличается от дошедшего до наших дней. Известный нам латинский перевод впервые появляется в трактате О граде Божием Августина, написанном между 410 и 426 гг. Коптский перевод Асклепия (Наг Хаммади, кодекс VI.8) датируется IV в. Таким образом, дошедшие до нас герметические трактаты имели хождение по крайней мере начиная со II в. н. э., хотя, скорее всего, не в виде известного нам корпуса, и нашли отражение в трудах раннехристианских и византийских авторов.
Герметические тексты не перестают интриговать исследователя античности. Как примирить гностицизм Поймандра со строгим монизмом (или пантеизмом?) Асклепия? Как соотносятся герметический Первый Ум, разум-Демиург и Логос с первыми принципами среднего платонизма и христианской Троицей? Как та материя, с которой соединилось высшее начало и которая «улыбается ему в любви», может быть злой силой? Каков смысл заключительной фразы Поймандра: «Да познает разумный человек самого себя, что он бессмертен, и что причина смерти – любовь»? Какова роль и происхождение таких сущностей, как мировая Воля, которая появляется в трактате X («Ключ»), Эон (трактат XI) или Добрый демон (трактат XII)? Иными словами, требуется осмысленное и подкрепленное как текстуальной традицией, так и историческим контекстом сопоставление герметизма с платонизмом, иудаизмом, гностицизмом и ранним христианством, с одной стороны, и эллинистической и египетской мифопоэтическими традициями, с другой. И наконец, можно ли ответить на вопрос о происхождении герметизма? Сводится ли это учение к простой смеси стоицизма, платонизма и эллинистического иудаизма? Восходит ли он к египетской религии, как считал еще Рейценштейн 9, или же его истоки следует усматривать в аркадской мифологии, как считал, например, критик этого немецкого ученого Ф. Зелинский 10. Детали этой сложной ученой полемики здесь неуместны 11, итог ей был подведен Фестюже-ром в его монументальном «Откровении Гермеса Трисмегиста», комментариях к переводу трактатов корпуса и многочисленных других работах 12. С египетскими корнями герметизма было решительно покончено: египетские элементы, по его представлению, имеют для гер-метизма не большее значение, чем ибисы на фреске в Помпеях (Festugière 1950–1954, I, 85). За герметическими текстами исследователи всегда пытались усмотреть соответствующее им религиозное сообщество, для которого герметика была бы откровенным писанием. Фес-тюжер полностью отвергает это представление: герметика разнородна как по форме, так и по содержанию, и хотя трактаты корпуса относятся к жанру откровенной литературы, вовсе не обязательно, чтобы они рассматривались как священное писание каким-либо сообществом или, тем более, выступали в качестве основы для какого-либо ритуала. Герметические тексты, по его представлению, следует рассматривать как литературные произведения, подходящие скорее для философской школы, а не религиозного сообщества, тем более что единственное, что объединяет «технический» и «теоретический» герметизм, – это имя Гермеса.
Однако ставшая почти общепринятой позиция Фестюжера в последние несколько десятилетий подверглась кардинальной переоценке благодаря открытию новых текстов и прочтению в их свете уже известных. Прежде всего, в осмыслении нуждалось место герметических текстов в составе коптской библиотеки из Наг Хаммади. В этой области наиболее заметным достижением последних десятилетий является двухтомная работа Жана-Пьера Маэ (Mahé 1978), первый том которой посвящен текстам из Наг Хаммади 13. Маэ пришел к выводу, что коптский текст Асклепия 21–29 в NHC VI.8 ближе к греческому оригиналу, нежели латинский перевод, и что высказанные в трактате воззрения о восхождении души для их адекватной оценки нуждаются в сопоставлении с египетской гномической литературой. Эта позиция была усилена им в переводе армянских «Определений» (1979), которые он рассматривал в качестве той модели, по которой составлялись позднейшие герметические сочинения. Он стремился доказать, что герметические сентенции восходят к аналогичным элементам египетской традиционной литературы «Поучений» и в этой гномической форме изначально были представлены эллинистической аудитории. Если герметические трактаты были действительно составлены на основе подобных собраний изречений, то это позволяет наконец понять, как доктринальное разнообразие отдельных сочинений могло сочетаться с терминологическим единообразием, характерным для всего корпуса. Постепенно краткие комментарии к сентенциям могли превратиться в более детальные диалоги и пространные комментарии, причем изначальный материал все более растворялся в массе последующих интерпретаций. Эта гипотеза весьма правдоподобна, так как мы знаем, что аналогичные собрания сентенций были исходным материалом для христианских и гностических сочинений 14. Кроме того Маэ решил, что гностические элементы в герметических трактатах – это вторичные добавления комментаторов, позднейшие напластования, отличные от исходных греко-египетских сентенций, сформулированных еще до того, как возник гностицизм 15. С другой стороны, исследователи гностицизма, иудаизма и раннего христианства подробно изучили возможность влияния и этих направлений религиозной мысли на герметизм, правда, гипотеза о возможном обратном влиянии герметизма на иудаизм и христианство энтузиазма ни у кого не вызвала.
Еще одной важной работой по истории герметизма стала книга Фаудена «Египетский Гермес» (Fowden 1986). Исправляя некоторые положения Маэ, Фауден все же соглашается с тем, что истоки герметики следует искать не в школьных аудиториях, а среди адептов многочисленных религиозных культов народной греко-египетской культуры эллинистического мира и что источники герметической традиции, равно как и ее истоки, – это важнейший вопрос, на котором должны сосредоточиться все будущие исследователи герметизма.
«Халдейские оракулы»
Оракулы (logia) дошли до нас лишь фрагментарно в составе неоплатонических трактатов, по большей части – непосредственно или опосредованно – в толкованиях Прокла и Дамаския. Неоплатоническая традиция приписывает их некоему Юлиану Теургу. Ситуация осложняется сообщением средневекового энциклопедиста Суды, который в двух отдельных статьях говорит о Юлиане Теурге, жившем при императоре Марке Аврелии (161–180 г. н. э.), и Юлиане Халдее – его отце и философе 16. Этот Юлиан участвовал в походе Римской армии на Дунай против племени квадиев, и, как сообщают, чудесным образом вызвал грозу, которая спасла римский лагерь в 173 г. О двух Юлианах пишет и византийский ученый Пселл (XI в.), согласно которому, Юлиан-отец вызвал для своего сына душу ангельской природы, которая затем вступила в контакт с Платоном 17. Не вполне ясно, кого из Юлианов следует считать автором Оракулов. Вполне вероятно, как считает Э. Р. Доддс в своем очерке теургии 18, личный вклад Юлиана-отца со- стоял в том, чтобы переложить неясные речения «оракула» гекзаметром и снабдить их комментарием – прообразом всех тех комментариев, которые затем писали неоплатоники 19. Скорее всего этот комментарий не был систематическим изложением или объяснением доктрины Оракулов и сводился к отдельным замечаниям, возможно, не менее загадочным, чем сами оракулы, ведь Юлиан и его сын в глазах современников и потомков должны были остаться «магами» и «теургами», которые совершали чудеса, умели общаться с богами и даже «делать» их 20. Однако независимо от того, возникли ли эти оракулы в результате серии «медиумических» сеансов или же были сознательно написаны в здравом уме, остается фактом то обстоятельство, что, как саркастически замечает Джон Диллон, «боги, которые вещали устами Юлиана (отца или сына), сами находились под сильным платоническим влиянием» (Диллон 2002, 378).
«Многое в Оракулах обусловлено влиянием традиционных персидских представлений и восходит к популярной магической практике, – поясняет далее этот автор, – что подтверждается и стилем изложения, который едва ли можно назвать философским, однако очевидно, что базовая метафизическая схема – по сути и терминологически – восходит к платонизму того времени» (с. 381).
Автор Оракулов призывает «не пачкать свою “пневму” и не углублять плоскость (epipedon)» (фр. 104), «не смотреть на Природу» (фр. 102) и «не добавлять меры Судьбы!» (фр. 103). Напротив: «Пусть бессмертные глубины души откроются! Изо всех сил устремляйте взор свой вверх» (фр. 112). То, что душа увидит наверху, описывается в терминах, очень напоминающих неопифагореизм Нумения и гностицизм Валентина (оба эти автора были современниками Юлиана), однако выражается при помощи своеобразной терминологии. Центральной фигурой оказывается богиня Геката, богиня подземного царства из греческой мифологии, «источник всех источников и материнское чрево всех вещей» (фр. 30), «дающая жизнь» (фр. 32), «мембрана» (hyperzokos hymen, fr. 6), через которую влияния высшего мира проникают в низший. Этот женский порождающий принцип напоминает Софию Филона и гностиков и Изиду Плутарха и действует на всех уровнях бытия, начиная от предвечной Диады, через Мировую душу и вплоть до материи, если верить очерку Пселла (Hypotyposis, 27) в котором материя называется эпитетом Гекаты – patrogenes (рожденная отцом). По свидетельству Прокла, материя описывается как «исходящая от демиурга» (фр. 34), и в итоге – от Отца (фр. 35).
Не вполне ясно, монистична теология Оракулов или дуалистична. С одной стороны, первый принцип описывается как полностью трансцендентный: он «похищает (herpassen) себя» (фр. 3), ему непричастны даже высшие силы и постижим он лишь при помощи некой техники медитации, названной «цвет разума» (фр. 1). С другой стороны, он называется «бездной (bythos) Отца» и при нем находится «вскормленная богом тишина» (фр. 16), что напоминает гносис Валентина.
От первого принципа (или пары первых принципов) происходит второй («отец»), который также двойственен: с ним находится некая «сила» (фр. 3 и 4). От него происходит демиург, который описывается как двоица (фр. 8), одновременно причастная умопостигаемому и чувственно воспринимаемому: он созерцает собственный мир идей, порожденных отцом (фр. 37), творит умопостигаемый мир и оформляет физический космос в качестве «огненного» бога (фр. 5, 33), что также напоминает гносис Валентина и огненный логос герметического Поймандра .
Плотин не сказал об оракулах ни слова 21. Не исключено, что он не слышал о них, либо не удостоил вниманием как откровенную мистификацию, похожую на те гностические тексты, которые он отвергал в приведенном выше свидетельстве Порфирия и в серии своих сочинений против гностиков (прежде всего, II.9) 22. Примечательно, что в сочинении ученика Плотина Порфирия, О философии из оракулов , возможно, опубликованном еще при жизни учителя, также нет ни слова о Халдейских оракулах или хотя бы скрытой цитаты или реминисценции из них. Ничего подобного нет и в его сохранившемся Письме египетскому жрецу Анебону. Вероятно, он познакомился с Оракулами гораздо позже и, как сообщает Марин ( Жизнь Прокла 26), комментировал их. За ним последовал Ямвлих, комментируя Оракулы (о чем сообщает император Юлиан в 12 письме) и используя их в сохранившемся трактате О египетских мистериях 23, опубликованном под именем «мастера Абаммона» и адресованном Порфирию. Не занятия философией и размышления ведут к спасению, согласно автору этого трактата. «Условные знаки сами делают свое дело» и боги «узнают» их.
Ямвлих оказал существенное влияние на императора Юлиана, однако после преждевременной смерти последнего и казни его наставника Максима теургия явно «вышла из моды», возродившись лишь в V веке в Афинской школе неоплатонизма. Ревностным сторонником теургии был Прокл. Влияние Оракулов чувствуется в большинстве его сочинений, кроме того, он написал на них специальный комментарий, текст которого был, судя по всему, известен еще Пселлу в IX в. и, прямо или косвенно, Никифору Григоре в XIV в. 24 Цитируя отдельные оракулы (ок. 40 фрагментов и несколько обобщающих пересказов), Пселл помещал после них комментарий Прокла, а затем добавлял собственный комментарий, очень ученый и, в целом, исключительно доброжелательный, целью которого было согласовать «халдейские» речения с христианской теологией. Есть основания считать, что трактат Прокла – это единственное сочинение об оракулах, которое было доступно Пселлу. Кроме того, некоторое количество оракулов дошло до нас непосредственно из сохранившихся работ Прокла, прежде всего краткого Комментария на Кратил .
Другим основным нашим источником является Дамаский. Ему принадлежит примерно пятая часть общего собрания фрагментов, которые происходят, в основном, из двух его работ: монументального трактата О первых принципах и Комментария на Парменид . Четырнадцать фрагментов у Дамаския и Прокла совпадают, полностью или частично, остальные различны. Кроме того, несколько цитат встречаются в сочинениях Иоанна Лида (полностью зависимого от Прокла), Юлиана, Дидима, Синесия, Боэция, Гиерокла, Гермия, Симпликия и Олимпиодора (по большей части независимых). Однако вклад этих остальных авторов очень мал по сравнению с Проклом (почти четыре пятых всех фрагментов) и Дамаскием (около одной пятой) и сводится всего к нескольким строкам, впрочем, важным для оценки философской среды, в которых циркулировали оракулы.
Итак, Оракулы , как они выглядят ныне, представляют собой примерно 350 строк гекзаметром, разделенных на 190 фрагментов и сопровождающихся комментарием. Скорее всего, это было собрание речений, а не цельная поэма, причем разные авторы понимали смысл этих речений по-разному. Это, как отмечает Атанассиади, создает основную источниковедческую проблему в работе с оракулами:
«Ясно, что любая попытка построения цельного собрания должна базироваться на методичном изучении прочтения оракулов соот- ветственно Проклом и Дамаскием – двумя авторами, чье субстанциональное разногласие в понимании наследия Платона отразилось в их различных подходах к Оракулам» (Athnassiadi 1999, 157).
Однако, как далее отмечает исследовательница, эта на первый взгляд очевидная идея издателям пришла в голову далеко не сразу. На самом деле, расположение и издание фрагментов с учетом их использования комментаторами и разделение всей совокупности свидетельств на два «корпуса» в соответствии с их происхождением – это задача будущего. Первый собиратель фрагментов, Кроль (Kroll 1894), вообще не стремился издать их в виде корпуса, просто извлекая нужные ему фрагменты и комментарии для того, чтобы в своей диссертации реконструировать теологическую и философскую систему Оракулов . Он вычленил стихотворные строки из различных источников и расположил их в виде «поэмы», разделив ее на две части: первую, – платонико-теоретическую, и вторую, – магико-теургическую. Это систематическое деление было принято в фундаментальной работе Lewy 1945 (второе издание 1978) и легло в основание собрания Де Пласа (Des Places 1971), который лишь дополнил фрагменты, идентифицированные Кролем, новыми и удалил сомнительные. Книга Majercik 1989 представляет собой по сути перевод собрания Де Пласа на английский язык с небольшими изменениями и авторским комментарием. Причем со времен Леви в качестве основы для организации собрания берется краткая сводка теологии оракулов Пселла, и древние авторы располагаются вокруг нее. Такая методика запрягает телегу впереди лошади, затемняя исходную структуру и не позволяя в полной мере использовать контекст, поэтому, по словам Атанассиади,
«…учитывая то обстоятельство, что оригинальный порядок метафизически переданных речений не может быть восстановлен, не только позволительно, но и по методологическим соображениям весьма желательно реорганизовать собрание в соответствии с происхождением фрагментов, стремясь найти указания, помогающие истолковать этот темный текст, скорее в реакции на него самих античных читателей, нежели в позднейших комментариях Пселла, как это было принято ранее» (Athanassiadi 1999, 158).
В результате очевидным становится тот факт, что комментарии Прокла и Дамаския – это не дополняющие друг друга толкования теологической системы Оракулов, а два весьма различных ее понимания, которые не всегда могут быть согласованы между собой. И хотя сами по себе разногласия Прокла и Дамаския – это скорее страница истории позднего неоплатонизма, их изучение все же немало дает для уяснения смысла самих Оракулов и, в любом случае, помогает отчетливее проследить историю их передачи 25.
Например, фр. 22, сохранившийся как у Прокла, так и у Дамаския:
Натрое ум отца сказал всем вещам разделиться.
И не успел он кивнуть, как воля их все разделила, –
Прокл истолковывает как указание на триадическую структуру космоса ( Комм. на Тимей III.243). Напротив, Дамаский подчеркивает единство этой триады, стремясь доказать, что бог един, несмотря на такую троичность ( О первых принципах III.58; III.136). В целом, Прокл стремился разработать систематизированную структуру космоса и проявлял особенный интерес к практическому теургическому аспекту оракулов вплоть до эсхатологических и апокалиптических мотивов, которые он в них находил (см. фр. 164, 165, 157–162 и, особенно, 170), в то время как Дамаский стремился с их помощью подчеркнуть апофатизм своей собственной очень подвижной и сложной философской системы и сознательно избегал тех аспектов халдейского богословия, которые выглядели слишком похожими на магию и тем самым дискредитировали идею духовного восхождения к высшим началам 26. Примечательно, что подобной же избирательностью (и почти по тем же причинам) отличалось позднейшее собрание оракулов у византийского гуманиста Плифона 27.
Проблема источников Халдейских оракулов и их связи с современной им религиозно-философской мыслью до настоящего времени далека от разрешения. Наиболее очевидна связь с неопифагорейцем Ну- мением, современником обоих Юлианов и жителем Сирийской Апа-меи, города с богатой религиозно-философской традицией. Говоря словами Доддса, «между этими двумя системами должна быть какая-то связь, однако трудно с уверенностью сказать, в каком направлении шло движение» (Dodds 1961, 271). Настроенная не столь пессимистично Атанассиади предлагает рассмотреть гипотезу о возможной связи Халдейских оракулов с религиозными центрами Апамеи в контексте значительно продвинувшихся в последнее время исследований удивительного феномена «возрождения оракулов» во втором-третьем веках н. э. (Athanassiadi 1999, 153–156).
Археологические данные и античные нарративные источники сообщают, что над рыночной площадью Апамеи возвышался большой храм и оракул Бела, до настоящего времени не раскопанный. Впечатление о том, как это могло выглядеть, можно составить на основании другого сохранившегося комплекса, посвященного этому космическому божеству, расположенного в сирийской Пальмире. «Бел» («Господин») – это эпитет валилонского бога грозы Адада, которого Прокл идентифицирует с «дважды-запредельным» творческим принципом Халдейских оракулов – божеством, центральным как в теологическом, так и философском смысле слова. Культ Бела, как показывают исследования, сформировался еще в древневавилонский период и процветал в этом регионе до эпохи селевкидов, однако в эллинистический и римский периоды он в определенном смысле пережил второе рождение и получил очень широкое распространение в Сирии и за ее пределами, о чем свидетельствуют прежде всего храмы в Пальмире и Апамее и ряд сравнительно недавно обнаруженных надписей (Athanassiadi 1999, 154, n. 20, 23). Эти надписи, похоже, подтверждают, что в родном городе Посидония жрецы Бела (которых, возможно, называли «халдеями») играли существенную роль: надпись II в. на сполии (повторно использованной колонне) из большой колоннады называет жреца Бела главой местной эпикурейской школы, а в надписи на одном алтаре из Вазио (совр. французский город Везон) упоминаются «Апамейские оракулы (logia)» 28. Мы не знаем, что это за оракулы, однако данный пример показывает, что во втором веке жрецы Бела продолжали древнюю традицию дивинации, которая создавала славу этим храмам в качестве религиозных центров далеко за пределами Апамеи и даже Малой Азии и, как предполагает Атанасиади (с. 155), не исключено, что
«…один из жрецов по имени Юлиан вполне мог стать автором откровенных речений, теологическое содержание которых, отражая особенности места и времени создания, было в то же время укоренено в вековой вавилонской традиции. Наследие Посидония и, особенно, Нумения просматривается в теологии тех фрагментов, которыми мы располагаем, так что гипотеза, согласно которой оба Юлиана могли вращаться в апамейском круге Нумения в то время, когда религиозное сознание от пантеизма неуклонно смещалось в сторону трансцендентализма, выглядит весьма привлекательной».
Во второй половине третьего века в Апамее обосновалось еще два крупных философа. Сначала Амелий, по каким-то причинам покинувший круг Плотина, переселился сюда ок. 270 г., познакомился с Оракулами и комментировал их в духе Платона (о чем сообщает Прокл, Комм. на Тим . I.361.26–362.2). Подобным же образом, после продолжительного путешествия в Апамею приехал Ямвлих и основал здесь влиятельную школу. Как уже говорилось, именно благодаря ему как «канонический текст» Оракулов , так и обширный комментарий на них к началу IV в. отправились на запад и нашли там множество горячих приверженцев, в том числе и Прокла. Между тем храм Бела в Апа-мее был – не без труда – разрушен по приказу епископа Марцелия в конце IV в. 29
Оракулы представляли собой весьма своеобразное явление античной религиозной жизни 30. В них божество непосредственно обращается к слушателю с указаниями личного либо нормативного содержания, в первом случае предписывая совершить определенные действия или воздержаться от них, во втором – сообщая о запредельном, устанавливая общие для всех моральные запреты и ритуальные предписания. Характерно, что в позднеантичный период индивидуальные предсказания вышли из моды, зато оракулы все чаще начали высказываться в форме универсальных суждений теологического характера. Отражая общую тенденцию эпохи, склонной к получению различных божест- венных откровений, эти оракулы кардинально отличались от другой откровенной литературы поздней античности, такой как христианские, гностические и герметические писания или орфические поэмы, прежде всего тем, что в них отсутствовал центральный миф.
Возрождение оракулов во втором–третьем веках нашей эры представляет собой очень интересное и до настоящего времени малоисследованное явление в истории религии 31. Философское истолкование древних и новых оракулов к этому времени уже превратилось в устойчивую традицию, которая нашла яркое выражение, например, в работах Плутарха 32. Однако в данном случае мы сталкиваемся с противоположной ситуацией: не философы стремятся «спасти мифы» 33 и придать им авторитетность в изменившихся условиях, но оракулы создаются для того, чтобы дать божественную санкцию уже существующим теологическим построениям. В полном соответствии с религиозно-философскими тенденциями того времени, возрожденные оракулы отличает два обстоятельства: выраженные в них представления о божестве строго монотеи-стичны, а культовые предписания допускают скорее духовное, нежели практическое прочтение. Похоже, они были призваны придать авторитетность философскому «койне» того времени и санкционировать соответствующую ему религиозную практику.
Собрание оракулов, аналогичное Халдейским, составил Порфирий в конце третьего века в своем сохранившемся фрагментарно сочинении Философия из оракулов 34. Он базировался на материале оракула Аполлона из Дидимы (близ Милета) 35, в то время как римский платоник Корнелий Лабеон собирал и комментировал оракулы Аполлона Кларийского (близ Колофона) 36. Известны также другие собрания оракулов, в том числе составленные христианскими авторами, которые таким способом стремились показать, что языческие «боги» предсказывали появление Христа. Именно так истолковывались древние предсказания, например, в книгах Сивиллы или так называемой Тюбинген- ской теософии 37. В течение длительного времени эти собрания рассматривались исследователями как литературные подделки, однако многочисленные надписи, обнаруживаемые в ходе археологических раскопок в Греции и Малой Азии, изменили эту укоренившуюся в литературе точку зрения, и в настоящее время мы начинаем рассматривать эти памятники в подобающем культурном контексте. И все же Халдейские оракулы примечательны тем, что они изначально были оформлены в виде цельного корпуса. Это не философский трактат об оракулах, а масштабное откровение, написанное от имени самого божества. Их автор, очень четко уловив тенденцию, сумел создать произведение, которое отвечало запросам того времени. В период формирования ортодоксального христианского учения, оракулы задали на все последующие века религиозно-философскую ортодоксию языческого неоплатонизма. В результате, подобно христианским отцам своего времени, сторожевой пес платонической ортодоксии Прокл, как сообщается, имел обыкновение говорить, что, будь его воля, он избавился бы ото всех книг, оставив лишь Тимей и Халдейские оракулы (очевидно, оба снабженные его комментарием) 38.
Список литературы Герметизм. "халдейские оракулы" (библиографические обзоры)
- стр. 273-275