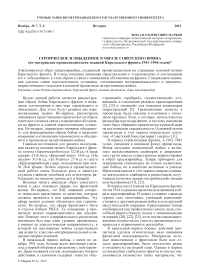Героическое и обыденное в образе советского воина (по материалам пропагандистских изданий Карельского фронта 1941-1944 годов)
Автор: Марков Михаил Борисович
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: История
Статья в выпуске: 7 (128) т.2, 2012 года.
Бесплатный доступ
Анализируется образ красноармейца, созданный пропагандистами на страницах военной печати Карельского фронта. В статье показана динамика представления о «героическом» и соотношение его с «обыденным» в этом образе в связи с изменением обстановки на фронте. Специальное внимание уделено смене идеологических установок, соотношению интернационального и национал-патриотического подходов в военной пропаганде на протяжении войны.
Вторая мировая война, карельский фронт, военная пропаганда, образ красноармейца
Короткий адрес: https://sciup.org/14750261
IDR: 14750261 | УДК: 94(470)“1917/1991”
Текст научной статьи Героическое и обыденное в образе советского воина (по материалам пропагандистских изданий Карельского фронта 1941-1944 годов)
Целью данной работы является реконструкция образа бойца Карельского фронта и выявление соотношения в нем черт героического и обыденного. Для этого будут решены две взаимосвязанные задачи. Во-первых, рассмотрена динамика в представлении героического в образе советского воина в связи с изменением обстановки на фронте и сменой идеологических установок. Во-вторых, определено значение обыденного для формирования образа бойца и выявлено изменение соотношения героического и обыденного в пропаганде на протяжении войны.
Главным источником для данного исследования является военная печать Карельского фронта: газеты «Героический поход» 122-й сд, «Страж севера» 23-й гвсд, «Красный воин» 14-й сд, «На штурм» 313-й сд, «За Родину» 27-й сд и газета «Красноармейский удар», выходившая при штабе 26-й армии. Печать играла в пропагандистской работе очень большую роль и зачастую служила главным пособием для агитаторов, работавших на низовом уровне рот и батарей.
Военная печать рисовала образ советского воина в двух основных сферах его фронтовой жизни. Во-первых, это бой, описание которого позволяло представить те качества, которые должны проявлять в нем красноармейцы. Эту сферу можно условно обозначить как героическую. Во-вторых, это сфера фронтового быта и отдыха бойцов РККА. Ее освещение в пропаганде можно охарактеризовать как обыденное. Помимо этого содержательного разделения значимым был еще один уровень пропаганды, а именно ее идеологическая направленность, в которой на протяжении войны существовали два аспекта: классово-интернациональный и на-ционал-патриотический.
В начальный период войны, с июня по декабрь 1941 года, больше всего внимания уделялось упорной обороне и связанному с ней героизму. Даже названия статей, посвященных боевым действиям, в основном содержат эпитеты «бес- страшный» «храбрый», «мужественный», «отважный» в отношении рядовых красноармейцев [2], [15] и «волевой» для описания командиров подразделений [5]. Традиционные сюжеты в пропаганде были связаны в основном с эпизодами крупных боев, в которых использовалось разнообразное вооружение, и поэтому внимание газет было обращено практически в равной мере на все воинские специальности. Основной мотив пропаганды в этот период определялся лозунгом: «Советский боец презирает смерть» [11].
В период стабилизации фронта, в 1942–1943 годах, сменился и основной фокус пропаганды. Новая ситуация позиционной войны с активным использованием снайперов и диверсионных групп внесла существенные корректировки в образ красноармейца. Теперь примером для подражания становились не только мужественные бойцы, но и наиболее активные и умелые. Фронтовая пресса в этот период широко освещала деятельность снайперов и разведчиков, получивших почетное звание «истребителей» немцев или белофиннов [17], [21].
В период наступления на Карельском фронте летом 1944 года вновь произошли изменения в образе красноармейца. В новых условиях главным героем стал пехотинец, умеющий взаимодействовать с другими родами войск в ходе крупной наступательной операции. Красноармеец теперь изображался как профессионал своего дела, способный решать боевую задачу с минимальными потерями [20], [22], [23], хотя мотив самопожертвования полностью не ушел из пропаганды и сохранялся в ограниченных масштабах.
В начальный период боевых действий пропаганда уделяла относительно мало внимания фронтовой повседневности. Материалы, которые повествовали о фронтовом быте или отдыхе красноармейцев, были достаточно редки и отодвинуты на второй план. Однако в период установления стабильного фронта в газетах увеличивается количество таких материалов, что было связано в первую очередь с изменением характера боевых действий: бойцы должны были находиться в постоянной боеготовности, для чего были необходимы налаженный быт и возможность полноценного отдыха. Это обусловило повышение внимания пропаганды к сфере «обыденности» во всех ее основных проявлениях.
Пропаганда подчеркивала, что красноармеец одет и обут и получает горячую пищу, в отличие от противника. Газеты говорили о важности бытовой культуры и представляли положение дел таким образом, что все проявления бесхозяйственности и безалаберности выглядели исключениями из общего правила [12]. Образ землянки, где можно прочесть книгу или газету, встречался в большом количестве статей [7], [12], [16]. Не меньшим вниманием пользовалась и красноармейская самодеятельность во всех ее формах: от танцев и песен до декламации стихов. Такое внимательное отношение к культурному отдыху было отнюдь не случайно, так как оно помогало создать образ бойца РККА как защитника культуры и прогресса от варварства и деградации.
На трансформацию образа советского воина влияли также изменения в идеологических установках пропаганды на протяжении войны, выразившиеся в переосмыслении значения ее классовых и национальных аспектов. Эти вопросы поднимались в работах Е. С. Сенявской [26], [27], которая пришла к выводу о том, что классовые мотивы практически полностью были заменены национально-патриотическими. Иное мнение выражает Ф. Л. Синицын [25], который указывает на рост национально-патриотических мотивов в пропаганде на протяжении 1941–1943 годов, но отмечает и противоположную тенденцию – возвращение значительной части интернациональных и классовых установок с 1944 года. В данном случае более взвешенной представляется вторая позиция, хотя скорее можно говорить не о полном изъятии классовых мотивов из пропаганды, а о перемещении их на второй план и соединении с национал-патриотическими сюжетами в причудливой форме. Эта тенденция в пропаганде достаточно отчетливо выразилась в обращении к сюжетам дореволюционной истории.
С использованием в пропаганде образов дореволюционной культуры все было более или менее просто, так как значительная часть деятелей культуры в той или иной степени была оппозиционна к царскому режиму. Так, например, изображался А. С. Пушкин [19]. В статье о нем интересно еще и то, что новые враги – фашисты – были напрямую связаны со старыми классовыми врагами в лице царского правительства. Такая увязка, использовавшаяся в начальный период войны, постепенно исчезла из пропаганды, так как реальность оказалась намного страшнее. Во всех материалах, связанных с культурой, можно выделить один общий момент: красноармеец в них представал защитником всех культурных достижений в зависимости от контекста – советских, европейских или вообще мировых.
Пересмотр соотношения классовых и национально-патриотических мотивов в пропаганде сопровождался обращением к дореволюционным военным традициям. Образы государственных деятелей, зарекомендовавших себя на военном поприще, в значительной мере были очищены от классовой оценки. Тем самым создавалась возможность для «опрокидывания» политики в прошлое. Образы исторических деятелей осовременивались, также как и мотивы их деятельности. Знаменитым средневековым деятелям приписывались национальные устремления, характерные скорее для XIX века. Осовременивались и события. Так, например, в материалах, посвященных Александру Невскому и Дмитрию Донскому, упоминались ополченцы [3]. Это явно не соответствует историческим реалиям, зато позволяло, с одной стороны, связать РККА с древней воинской традицией, а с другой – показать, что войны выигрывал вооруженный народ [4]. Таким образом, при обращении к дореволюционной истории внимание, помимо выдающихся исторических деятелей, было направлено на народные массы, позиция которых в конечном итоге определяла успех военного или государственного деятеля. А знаменитый военачальник, в свою очередь, был успешен настолько, насколько мог подняться над интересами своего класса и опереться на народные массы. Несмотря на то что классовые характеристики дореволюционных военных героев затушевывались, во всех пропагандистских материалах исторического характера оставался некоторый задел для возвращения на рельсы классового подхода.
Нельзя сказать, что пропаганда совсем отказалась от использования классовых символов. В военной печати периодически появлялись статьи, повествовавшие о важных вехах коммунистического и рабочего движения (например, статья о Парижской коммуне [18]). Не исчезло и обращение к сюжетам антифашистской борьбы, особенно это относилось к гражданской войне в Испании. Тем самым красноармейцам внушалась мысль, что они являются не только защитниками СССР, но и всей прогрессивной революционной традиции в истории.
Постулируя тезис о том, что Красная армия – это армия дружбы народов, пропаганда связывала это положение с достижениями социалистического строя. В пропагандистских материалах газет подчеркивалось равенство всех красноармейцев независимо от их национальности, что противопоставлялось отношениям господства и подчинения между немцами и их союзниками. В условиях Карельского фронта подчеркивалось неравноправие финнов в коалиции с Германией [5], [6], [13]. На многочисленных примерах пропаганда старалась показать, что финны были обижены поведением немцев, которые вели себя в Финляндии не как союзники и гости, а как полноправные хозяева.
Пропаганда единства народов СССР присутствовала как в героической, так и в обыденной ипостасях. Согласно специальной директиве ГЛАВ ПУ РККА [1], которую приняли к исполнению в частях Карельского фронта в октябре 1942 года, следовало максимально пропагандировать героические образы воинов нерусской национальности, включая тем самым интернациональную по сути установку в героический аспект пропаганды. По мере выполнения директивы в прессе активно использовались материалы, посвященные боевой деятельности воинов разных национальностей [10], [14], [24]. Пропаганда не уставала напоминать, что именно благодаря Октябрьской революции и строительству социализма народы СССР смогли жить в мире и согласии. В итоге образ красноармейца нельзя охарактеризовать как образ, формируемый на одномерных идейных основаниях. Он основывался, с одной стороны, на части дореволюционной традиции, очищенной от неприемлемых для новой власти черт, с непременным подчеркиванием во всех событиях роли народных масс. С другой стороны, обращение к героическим моментам революционного движения, как русского, так и зарубежного, сохраняло определенные позиции в пропаганде. Кроме того, в таком многонациональном государстве, как СССР, образ защитника приобрел единые интернациональные черты и изначально был построен вокруг общих для всех национальностей ценностей, а потом был конкретизирован для каждой из них в отдельности.
Таким образом, образ бойца Карельского фронта и соотношение в нем героического и обыденного менялись в зависимости от положения дел на фронте. Наибольшее значение сфере обыденного придавали в период стабилизации фронта, а в периоды активных боевых действий на первый план выходила героическая компонента. Содержательная сторона образа была в своей героической части жестко привязана к событиям на фронте, а содержание обыденной части эти события почти не затрагивали. Идейная основа героической части образа отражала усиление национально-патриотической тенденции, но сохраняла черты классового подхода. Обыденная составляющая образа основывалась прежде всего на образцах, связанных с послереволюционной историей и классовым подходом.
* Работа выполнена при поддержке Программы стратегического развития (ПСР) ПетрГУ в рамках реализации комплекса мероприятий по развитию научно-исследовательской деятельности на 2012–2016 гг.
18 сентября. С. 2.
10 июня. С. 1.
Список литературы Героическое и обыденное в образе советского воина (по материалам пропагандистских изданий Карельского фронта 1941-1944 годов)
- Центральный архив министерства обороны (ЦАМО) РФ. Ф. 1333. Оп. 1. Д. 218. Л. 97.
- Вайсбейн Ю. Бесстрашие комсомольцев Лагутина, Степанова, Дударева//Героический поход: красноармейская газета. 1941. 7 августа. С. 1.
- Великие предки. Александр Невский//За счастье Родины: красноармейская газета. 1941. 2 октября. С. 2.
- Великие предки. Минин и Пожарский//Героический поход: красноармейская газета. 1941. 4 декабря. С. 2.
- Волевой командир//За Родину: красноармейская газета. 1941. 14 ноября. С. 2.
- Голодная зима в Финляндии//На штурм: красноармейская газета. 1941. 28 декабря. C. 2.
- Грищенко. В часы затишья//Страж севера: красноармейская газета. 1942. 5 февраля. С. 2.
- Деркачев Ф. Шила в мешке не утаишь//Героический поход: красноармейская газета. 1942. 13 января. С. 2.
- Деркачев Ф. Снайперская пара//Героический поход: красноармейская газета. 1942. 16 сентября. С. 2.
- Деркачев Ф. Так сражается с немцами Михаил Мурадьян//Героический поход: красноармейская газета. 1942. 18 сентября. С. 2.
- За Родину: красноармейская газета. 1941. 22 ноября. С. 2.
- Захаров Ф. Здесь живут бойцы//Героический поход: красноармейская газета. 1942. 5 января. С. 1.
- Клейнерман Ю. Финляндия глазами немца//Красноармейский удар: красноармейская газета. 1943. 16 октября. С. 2.
- Константинов В. Коммунист казах Истлуев//Героический поход: красноармейская газета. 1942. 12 октября. С. 2.
- Ладов А. Отвага ездового Хаджиева//Героический поход: красноармейская газета. 1941. 3 августа. С. 2.
- Лампферт В. В Ленинских землянках//Красноармейский удар: красноармейская газета. 1942. 23 октября. С. 2.
- Множить счет истребленных оккупантов//На штурм: красноармейская газета. 1942. 14 марта. С. 1.
- Парижская коммуна//Героический поход: красноармейская газета. 1942. 18 марта. С. 2.
- Рожанский И. Наш Пушкин//Героический поход: красноармейская газета. 1942. 12 февраля. С. 2.
- Сибиряков В. Будем драться лучше//За Родину: красноармейская газета. 1944. 11 июля. С. 2.
- Сколько ты истребил фашистов? Боевое соревнование снайперов//Страж севера: красноармейская газета. 1942. 3 февраля. С. 2.
- Смыслов В. Огнем и колесами//На разгром врага: красноармейская газета. 1944. 6 октября. С. 1.
- Терещенко И. В. В лесном бою: из опыта пулеметчика//Красноармейский удар: красноармейская газета. 1944. 10 июня. С. 1.
- Шапоренко М. Разведчик Галушко//Красный воин: красноармейская газета. 1942. 28 сентября. С. 2.
- Синицын Ф. Л. Проблема национального и интернационального в национальной политике и пропаганде в СССР в 1944 -первой половине 1945 года//Отечественная история. 2009. № 6. С. 40-53.
- Сенявская Е. С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. М.: РОССПЭН, 1999. 383 с.
- Сенявская Е. С. Противники России в войнах ХХ века: эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М.: РОССПЭН, 2006. 288 с.