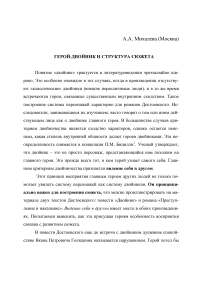Герой-двойник и структура сюжета
Автор: Михалева Анастасия Андреевна
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Статья в выпуске: 2 (3), 2006 года.
Бесплатный доступ
Двойник, двойничество, сюжет
Короткий адрес: https://sciup.org/14914012
IDR: 14914012
Текст статьи Герой-двойник и структура сюжета
В повести Достоевского еще до встречи с двойником душевное спокойствие Якова Петровича Голядкина оказывается нарушенным. Герой хотел бы выступать в роли независимого, уверенного в себе человека, разъезжающего по личным делам. Однако эта маска не соответствует обычному образу Голядкина, что чувствует и он сам. Когда экипаж героя встречается с каретой начальника, несчастного титулярного советника начинает мучить ощущение, что избранное амплуа с ним не совместимо: «Признаться иль нет? <…> или прикинуться, что не я, что кто-то другой, разительно схожий со мною, и смотреть как ни в чем не бывало?»2 (1, 214). Здесь Голядкин как будто желает, чтобы у него появился двойник – некто похожий на него, но не он сам.
Помимо достаточно искусственной роли разъезжающего по личным делам господина Голядкин выступает в первых главах «Двойника» еще в одной, более близкой ему ипостаси – в образе праведной жертвы лицемерных врагов. Он представляет себя в этом качестве в разговорах с доктором и сослуживцами: «не интригант», «полуслов не люблю; мизерных двуличностей не жалую; клеветою и сплетней гнушаюсь» (1, 220). Он благороден и может стать жертвой предательских козней: «у меня есть злые враги, которые меня погубить поклялись» (1, 222).
Герой не только определяет свое амплуа, но и по принципу от противного задает тип поведения своего будущего двойника, Голядкина-младшего. Последний выступает как «интригант» и «клеветник», от чего отказывается Голядкин-старший. Главный герой подчеркивает, что он принадлежит к тем людям, «которые не любят скакать и вертеться по-пустому, заигрывать и подлизываться, а главное, господа, совать туда свой нос, где его вовсе не спрашивают» (1, 230). Двойник же в дальнейшем будет действовать именно так.
Голядкин-старший не только предвосхищает общий тип поведения двойника. Помимо этого он, говоря в письме Вахрамееву о возможном будущем своего коварного близнеца, невольно предсказывает собственную участь. По его словам, действия Голядкина-младшего «заслуживают изумления, презрения, сожаления и, сверх того, сумасшедшего дома» (1, 313). Сам не зная того, Яков Петрович описывает печальный конец своих похождений.
Образ действий «зловредного близнеца» и их страшный результат заранее присутствуют в мыслях героя и преломляются в действительности, так сказать, с переменой знака. Голядкин хочет, чтобы роль независимого светского человека исполнил вместо него кто-то другой – не он сам, но некто, «разительно схожий» с ним. Этому побуждению отвечает появление двойника. Голядкин мнит себя жертвой коварных врагов, и именно в такое положение ставит его двойник. Видение себя в другом принимает в повести Достоевского следующую форму: действия другого заранее присутствуют в кругозоре героя. Таким образом, фигура двойника оказывается связана с организацией сюжета: в рамках изображенного мира не происходит ничего неожиданного – все события, то есть все действия обоих двойников, заранее предопределены тем, как главный герой видит мир и свое место в нем.
В романе «Преступление и наказание» принцип «видение себя в другом» реализуется несколько иначе, однако здесь он также влияет на развертывание сюжета. Воля главного героя колеблется между противоположными побуждениями, и одним из факторов, направляющих эти колебания, является восприятие другого как двойника. Приведем несколько примеров.
Пробуждение после сна о забитой лошаденке показывает, что Раскольников воспринимает чужие действия как собственный возможный поступок. Примечательно, что он ужасается не идее убийства как таковой, не тому, что люди в принципе способны на подобную жестокость. Он видит в роли убийцы самого себя, это и заставляет его после пробуждения отречься от воплощения «проклятой мечты». В его переживаниях акцент делается не на принципиальной недопустимости убийства, а на несовместимости этого действия с его внутренним настроем: «Пусть, пусть даже нет никаких сомнений во всех этих расчетах <…> Ведь я все же равно не решусь! Я ведь не вытерплю, не вытерплю!» (5, 65). Подобное узнавание себя в убийце вызывает у героя ужас и стремление заново очертить контуры своего «я», провести границу между собственной личностью и ее искаженным отражением в облике двойника.
После убийства, как и до него, героя терзают противоречия: он то впадает в апатию, то стремится найти для себя некий «исход». Поиск «исхода» отчасти направляется способностью Раскольникова видеть в других своих двойников. Так, в шестой главе второй части герой видит, как с моста бросается женщина. Неизвестно, думал ли Раскольников в этот момент о самоубийстве, однако в конце эпизода становится ясно, что сцена с утопленницей внушила ему отвращение к такому «исходу». «Нет, гадко… вода… не стоит <…> нечего ждать» (5, 178). Последнее замечание («нечего ждать») можно истолковать следующим образом. Действия женщины напоминают Раскольникову движение по замкнутому кругу: для нее это уже не первое неудавшееся самоубийство, ее жизнь превратилась в тщетную погоню за смертью. Герой увидел в попытке утопиться один из моментов движения по кругу, который не приносит освобождения, не является в полном смысле слова «исходом». Хотя буквально это относится только к самой утопленнице, у Раскольникова возникает ощущение, что и для него самоубийство не будет действительным выходом из тупика. Герой приходит к этой уверенности не рациональным путем. Перед нами связанный с мотивом двойничества особый способ видения мира, когда герой видит в судьбах других персонажей возможные повороты собственной судьбы.
Наиболее полно значение двойничества для художественного мира «Преступления и наказания» раскрывается при анализе связей между Рас- кольниковым и Свидригайловым. Для них характерна особая близость сознаний. Они понимают друг друга с полуслова, идеи одного представляются другому знакомыми. Не менее важным представляется то, что оба персонажа склонны искать в поведении, в образе мыслей друг друга ответы на собственные вопросы. Во время встречи в трактире Свидригайлов говорит Раскольникову: «Ну вот, например, ведь вы пошли ко мне теперь мало того что по делу, а за чем-нибудь новеньким?» (489) и не ошибается относительно целей своего собеседника.
Такое восприятие другого человека чрезвычайно характерно для двой-ничества. Наиболее ярко оно проявляется в последнем эпизоде основной части романа, когда главный герой, придя в полицию и узнав о самоубийстве Свидригайлова, внезапно словно забывает о своем намерении сделать признание и покидает контору. Одно из возможных объяснений таково: здесь срабатывает иное, по сравнению со сном и встречей с утопленницей, восприятие двойничества. Роман Достоевского демонстрирует два возможных варианта взаимовлияния двойников: «отталкивание», когда узнавание себя в другом вызывает внутренний протест и потребность защитить свое «я», и «притяжение», когда близость сознаний персонажей лишает их воли и побуждает действовать в одном направлении. Если в случаях с Миколкой и утопленницей реакция Раскольникова близка первому из названных типов, то в сцене в конторе – второму. Перед нами один из тех случаев, когда пример двойника действует завораживающе, лишает героя воли и заставляет следовать ему. Воплощение идеи самоубийства, которая присутствовала в сознании обоих героев, действует на Раскольникова подавляюще и, по-видимому, склоняет к повторению этого шага.
Итак, двойничество Раскольникова и Свидригайлова проявляется в особом взгляде друг на друга, при котором судьба, действия, образ мыслей дру- гого воспринимаются как знаки, способные направить мои действия по тому или иному руслу. То же самое можно сказать и об отношении Раскольникова к ряду второстепенных персонажей. Принцип «видения себя в другом» оказывается тесно связан с сюжетом: действия двойника демонстрируют возможный вариант судьбы героя, и последний либо отказывается от этого пути, возвращаясь к себе самому, либо, завороженный сходством, следует за двойником.
Присутствие в художественном мире произведения персонажей-двойников отвечает способности главного героя видеть в реальности отражение собственного сознания. Названное свойство героя воздействует на построение сюжета, однако характер этого воздействия разнится в зависимости от жанра. Тяготеющий к внутреннему единству герой повести заранее «подсказывает» двойнику единственно возможную логику поведения. В случае с незавершенным, способным к постоянному развитию героем романа встречи с двойниками направляют выбор центрального персонажа, демонстрируют ему разные варианты его пути.
-
1 Бицилли П.М. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского // Бицилли П.М. Избранные труды по филологии. М., 1996. С. 483–550
-
2 Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1956. «Двойник» и «Преступление и наказание» в дальнейшем цитируются по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте в скобках после цитаты.
Список литературы Герой-двойник и структура сюжета
- Бицилли П.М. К вопросу о внутренней форме романа Достоевского//Бицилли П.М. Избранные труды по филологии. М., 1996. С. 483-550.
- Достоевский Ф.М. Собр. соч.: В 10 т. М., 1956.