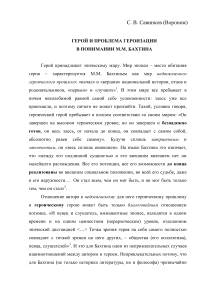Герой и проблема героизации в понимании М. М. Бахтина
Автор: Савинков Сергей Владимирович
Журнал: Новый филологический вестник @slovorggu
Статья в выпуске: 1 (1), 2005 года.
Бесплатный доступ
М. бахтин, герой, проблема героизации, эпопея
Короткий адрес: https://sciup.org/14913937
IDR: 14913937
Текст статьи Герой и проблема героизации в понимании М. М. Бахтина
Отношение автора к недосягаемому для него героическому прошлому и героическому герою может быть только благоговейным отношением потомка. «И певец и слушатель, имманентные эпопее, находятся в одном времени и на одном ценностном (иерархическом) уровне, отделенном эпической дистанцией <…> Точка зрения героя на себя самого полностью совпадает с точкой зрения на него других, – общества (его коллектива), певца, слушателей»3. И это для Бахтина один из непривлекательных случаев взаимоотношений между автором и героем. Непривлекательных потому, что для Бахтина (не только историка литературы, но и философа) чрезвычайно дорога идея авторской творческой активности. Мир же эпического героического прошлого «можно только благоговейно принимать, но к нему нельзя прикасаться, он вне района изменяющей и переосмысливающей человеческой активности»4. Автор может быть автором-творцом, иметь свою собственную ценностную позицию, прежде всего, тогда, когда он получает возможность изображать событие на одном ценностно-временном уровне с самим собою и со своими современниками, опираясь и на свой опыт, и на свой вымысел.
В истории культуры обретение автором таких прав знаменует, по Бахтину, совершение радикального переворота , а в мегаистории литературных жанров – «переход из эпического мира в мир романный». В романном мире герой уже не способен быть героическим героем5, а настоящее время – героическим, однако и то, и другое может подвергнуться со стороны автора героизации 6 .
Акт героизации , как его обрисовывает Бахтин, тесно сопряжен с «манипуляциями» временем и временной перспективой. У Бахтина выявляются три возможных типа героизации: героизация прошлого , героизация героя и героизация современности .
Потребность в героизации прошлого проникнута пафосом заботы о настоящем, которая зиждется на убеждении в необходимости продолжения прошлого. Яркий пример следования этому методу представляет, с точки зрения Бахтина, «История государства Российского» Н.М. Карамзина: «С точки зрения Карамзина каждое движение вперед должно оглядываться назад. При оценке события нужно учитывать, насколько новый шаг уклоняется от уже принятого направления. Новая Россия – часть единой России, и потому должна продолжить старую колею. Отсюда и героизация прошлого. Нельзя объяснить прошлое как совокупность ошибок, потому что прошлое нужно продолжить. Когда народ перестает героизовать свое прошлое, это свидетельствует об иссякании его исторических сил, о кануне его гибели. Поскольку прошлое дает толчки к созданию настоящего, его нужно героизовать. Метод героизации стал основным художественным методом “Истории”»7.
С героизацией героя дело обстоит более проблематично. Возможность такого типа героизации предоставляет автору та разновидность биографического романа, в которой герой наделяется авантюрногероическим сознанием , а сюжет «всецело опирается на социальную и характерологическую определенность, полную жизненную воплощенность героя». При этом «между характером героя и сюжетом его жизни должно быть глубокое органическое единство… Герой и окружающий его объективный мир должны быть сделаны из одного куска»8. Однако в отличие от «готового» эпического героя, в котором внешнее и внутреннее полностью совпадают , у стремящегося к героизации своей жизни героя «все внутреннее и все внешнее стремятся совпасть в ценностном сознании другого…»9.
В основе авантюрно-героического сознания лежит «воля быть героем, иметь значение в мире других, воля быть любимым и, наконец, воля изживать фабулизм жизни, многообразие внешней и внутренней жизни»10. Все эти три ценности, хотя и индивидуалистичны, но не оторваны от мира других . Организующее значение для личности с такой установкой имеет будущее . Личность «ценностно видит себя в будущем и управляется из этого будущего». При этом, уточняет Бахтин, «такое будущее не абсолютное, смысловое, а временнóе, историческое будущее (завтра), не отрицающее, но органически продолжающее настоящее <…> Вот это органическое ощущение себя в героизованном человечестве истории, своей причастности ему, своего существенного роста в нем, укоренение и осознание, осмысливание в нем трудов и дней – таков героический момент биографической ценности»11. Поэтому тот, кто стремится к славе героя, одновременно стремится и к увековечиванию себя в памяти потомков, а значит, на языке Бахтина, – к продожению своего настоящего в будущее.
Одним словом, если прошлое подвергается героизации с целью продолжения его в настоящее, то герой – с целью продолжения настоящего в будущее .
В толстовском блоке записей лекций, сделанных Р.М. Миркиной, приводятся высказывания Бахтина об Андрее Болконском как о герое, который на определенном этапе своего жизненного пути был наделен героическим сознанием, но, как это видно из общего контекста лекции, – сознанием «неправильным». Неправильным потому, что для него на первом плане оказываются внешние знаки признания, зримые для других свидетельства его успешности в деле заботы о своем будущем памятнике 12 . «Ему нужно все: он мечтает о спасении России, о том, чтобы стать Наполеоном и т.п. Это странное честолюбие рождает в нем уверенность, что ему предстоит совершить высокий жизненный путь. На каждое дело он смотрит как на возможный пьедестал, на котором он возвысится над всеми. И с этим желанием внешней славы начинается его путь»13.
В соответствии с бахтинским словоупотреблением, князю его будущее мыслится именно абсолютным , смысловым , таким, которое как раз не продолжает настоящее органически , а напрочь отрицает его. В самом деле, жизнь в «светском» настоящем, привязанная и к салонному ритуалу, и к «ритуалу» семейной жизни, представляется Андрею Болконскому заколдованным кругом , из которого он не может вырваться. Поэтому свое настоящее он оценивает и осмысливает в категориях отрицающего его будущего, в которое Болконский желает проникнуть не путем вырастания , а путем совершения безоглядного головокружительного скачка.
В записях лекций можно найти и примеры, указывающие на те произведения и тех авторов, которые, в отличие от Л. Толстого, стремились к действительному осуществлению героизации своих героев. Вот, к примеру, что было сказано Бахтиным по поводу Инсарова, героя романа Тургенева «Накануне»: «Это цельный, сильный деятельный человек. Но он ограничен, и эта ограниченность художественно выдвинута на первый план… У Инсарова фантастическая преданность маленькой Болгарии и полное равнодушие к тому, что не имеет отношения к его делу. Цельность здесь куплена ценой ограниченности, узости. Но в результате и Инсаров оказывается накануне: дела своего он не осуществляет; он умирает». Соотнося эти суждения с теми, которые были высказаны Бахтиным по поводу основной лирической темы романа, можно понять, в чем ему видится причина, обрекшая на провал попытку героизации Инсарова: она – в том, что Тургенев не сумел укоренить своего героя в настоящем времени: «Вся жизнь передвинута в героическое будущее, неопределенное и туманное, а настоящее – маята»14.
Неудачной для Тургенева, с точки зрения Бахтина, была и попытка героизовать Базарова. Базаров «сильный человек, в нем русские непочатые силы. Но с героем, в котором автор увидел силу и которого хочет героизовать, он не может справиться» по двум причинам. Во-первых, Тургенев занял по отношению к своему герою двойственную позицию («Перед Базаровым все пасуют, пасует, виляет и хочет польстить сам Тургенев, но вместе с тем и ненавидит его»), а, во-вторых, не смог овладеть им: «…существуют произведения, в которых автор не может овладеть своим героем: герой действует сам. Это объясняется тем, что мысль, которую автор вложил в своего героя, начинает логически развиваться, и автор становится ее рабом»15. В том случае, если герой завладевает автором, «автор не может найти убедительной и устойчивой ценностной точки опоры вне героя»16.
В зоне контакта с незавершенной действительностью перед автором с неизбежностью встают проблема границ человека и непосредственно из нее вытекающая проблема перестроения образа . Стремление к их разрешению с необходимостью настраивает автора на то, чтобы искать «подлинного человека не в нем, а вне его: в творчестве, в делах, в том, что он видит и слышит»17. Вступление в контакт с незавершенной действительностью провоцирует автора и на то, чтобы искать и другой способ героизации. В тех же заметках по стилистике романа есть такая сжатая до конспекта запись: «Новый тип героизации: герой–святой–шут».
Что имеет в виду Бахтин, можно только предполагать. Понятно, что новый героический герой «по определению» не может быть таким, как все: он не может иметь те же размытые (или – неустойчивые) границы, которые имеет в незавершенном мире обычный человек. В то же время понятно, что он должен быть отличен и от «просто» человека, и от той «готовности», которую имел его эпический собрат. Святой и шут – два полюса, «верх» и «низ», которые, каждый по-своему, сохраняют необходимое для героического героя ценностно окрашенное единство внешнего и внутреннего в разбалансированном мире настоящего.
То, что, говоря о новом типе героизации, Бахтин делает косвенную отсылку к роману Достоевского «Идиот», представляется очевидным. В самом деле, центральный образ этого романа, парадоксально совмещая в одном лице и святость, и шутовство, в полной мере вписывается в эту триадическую цепочку: «герой – святой – шут». Однако, судя по записям лекций, Бахтин и эту попытку рассматривает как неудавшуюся: «Основная тема романа – неспособность героя занять определенное место в жизни и страшная тоска по воплощению. В князе – высшая степень душевного совершенства, но он не знает возможности принять решение, сделать выбор. У него лишь острая реакция на переживания всех и вся. Пребывание в Петербурге – это как бы иллюзия воплощения. Он вошел в жизнь, но места в ней занять не мог… Это святость, не имеющая места в жизни»18. И далее: «Он святой, прекрасный дух, но это святость неудавшаяся, невоплотившаяся»19.
Разумеется, эти неудачные попытки героизации не могли связываться Бахтиным, скажем, с недостатком таланта у этих авторов. Дело в другом – в самой проблематичности героизации отдельно взятого героя в новых условиях. Пребывая не в эпическом, а в романном мире, герой уже не способен иметь тот «готовый» вид, который он имел тогда, когда между его внешним и внутренним не было ни малейшего зазора. Находясь в открытом, неуспокоенном мире настоящего, он не способен обладать былой наивностью20 (а если способен, то это – вариант князя Мышкина): в мире, подверженном разладу, героя печоринского типа не может не разъедать напрочь противопоказанная наивному взгляду на мир рефлексия. Кроме того, находясь в непосредственной «близости» к своему автору (эпической дистанции теперь нет), герой становится тем самым ближе и к его не «демиургическому», а к человеческому измерению. А это означает, что он, как, к примеру, тургеневский Базаров, не может не испытывать на себе сомнений, колебаний, амбивалентных эмоций, присущих автору-человеку.
Обратим внимание на то, что во всех этих примерах неудачность попыток героизации связывается Бахтиным с невозможностью для автора тем или иным образом вписать своего героического героя в современность.
И, наконец, – о третьем виде героизации, о героизации современности . В этом случае Бахтин высказался столь формульно, что нам лишь остается привести с небольшими сокращениями соответствующую цитату. От себя только скажем, что в отличие от пафоса заботы о настоящем, которым проникнута героизация прошлого, героизация современности проникнута пафосом заботы о будущем. И если для акта героизации прошлого важна идея его продолжения , то для акта героизации современности значима идея принципиально иная – абсолютного с ним (с историческим прошлым) разрыва . «Основная задача – героизация современности … В истории литературы она ставилась неоднократно, но решена она не была. С точки зрения сложившихся традиций литературы эта задача парадоксальна. Поэтому и решение ее, поскольку с этими традициями не решались порвать, было парадоксальным: приобщить прошлое настоящему, представить его в одежде героического прошлого, поднять до прошлого… до “дедовской славы”. Но такая героизация требовала абстракции от всего конкретного и специфического в современности. Но героизовать прошлое нужно в категориях будущего , тогда и малейшая былинка современности… могла быть героизована. Но для этого… надо было нащупать руками… н е о б х о д и м о грядущее будущее.
Утопическое, отвлеченное, нормативно-идеальное будущее для этого не годилось». И дальше: «Это будущее и не могло быть прямолинейным продолжением героического прошлого. Это стало возможным только у нас. Для овладения современностью в свете будущего необходима была радикальная и бесповоротная ссора с прошлым … Надо было нащупать будущее в современности. Сначала безъязычная улица, потом – организованный класс»21.
К статье С.В. Савинкова
-
1 Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа) // Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 456.
-
2 Там же. С. 476.
-
3 Там же. С. 477.
-
4 Там же. С. 460.
-
5 «Нельзя быть великим в своем времени, величие всегда апеллирует к потомкам (окажется в далевом образе), станет объектом памяти, а не объектом живого видения и контакта». Там же. С. 462.
-
6 Конечно, уточняет это положение Бахтин, «и “мое время” можно воспринимать как героическое эпическое время, с точки зрения его исторического значения (не от себя, современника, а в свете будущего), а прошлое можно воспринять фамильярно (как мое настоящее). Но тем самым мы воспринимаем не настоящее в настоящем и не прошлое в прошлом; мы изъемлем себя из “моего времени”, из зоны его фамильярного контакта со мной». См.: Там же. С. 456–457.
-
7 Бахтин М.М. Записи лекций по истории русской литературы // Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. М., 2000. С. 413–414.
-
8 Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского // Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. М., 2000. С. 72–73.
-
9 Там же. С. 148.
-
10 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. М., 1986. С. 144.
-
11 Там же. С. 145.
-
12 «Победы, титулы, награждения, – все то, что определяло и определяет жизнь, что строит (иерархический) образ человека». См.: Бахтин М.М. Дополнения и изменения к Рабле // Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1997. С. 85.
-
13 Бахтин М.М. Записи лекций по истории русской литературы. С. 245.
-
14 Там же. С. 220.
-
15 Там же. С. 220–221.
-
16 Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 21.
-
17 Бахтин М.М. К стилистике романа // Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1997. С. 138.
-
18 Бахтин М.М. Записи лекций по истории русской литературы. С. 276.
-
19 Там же. С. 278.
-
20 Одна из существеннейших черт героического сознания – это, по определению Бахтина, наивность. «Его (такого сознания. – С.С.) наивная, уплотненная до данности нравственность: добродетели преодоления нейтрального, стихийного природного бытия (биологического самосохранения и проч.) ради бытия же, но ценностно утвержденного
(бытия другости), культурного бытия, бытия истории (застывший след смысла в бытии – ценный в мире других; органический смысл роста в бытии)». Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 148.
-
21 Бахтин М.М. Теория романа. Теория смеха. О Маяковском // Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1997. С. 51–52.
Список литературы Герой и проблема героизации в понимании М. М. Бахтина
- Бахтин М.М. Эпос и роман (О методологии исследования романа)//Бахтин М.М. Вопросы литературы и эстетики. М., 1975. С. 456.
- Там же. С. 476.
- Там же. С. 477.
- Там же. С. 460.
- Там же. С. 462.
- Там же. С. 456-457.
- Бахтин М.М. Записи лекций по истории русской литературы//Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. М., 2000. С. 413-414.
- Бахтин М.М. Проблемы творчества Достоевского//Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 2. М., 2000. С. 72-73.
- Там же. С. 148.
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. М., 1986. С. 144.
- Там же. С. 145.
- Бахтин М.М. Дополнения и изменения к Рабле//Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1997. С. 85.
- Бахтин М.М. Записи лекций по истории русской литературы. С. 245.
- Там же. С. 220.
- Там же. С. 220-221.
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 21.
- Бахтин М.М. К стилистике романа//Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1997. С. 138.
- Бахтин М.М. Записи лекций по истории русской литературы. С. 276.
- Там же. С. 278.
- Бахтин М.М. Автор и герой в эстетической деятельности. С. 148.
- Бахтин М.М. Теория романа. Теория смеха. О Маяковском//Бахтин М.М. Собр. соч.: В 7 т. Т. 5. М., 1997. С. 51-52.