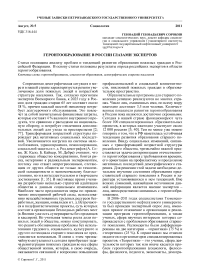Геронтообразование в России глазами экспертов
Автор: Сорокин Геннадий Геннадьевич
Журнал: Ученые записки Петрозаводского государственного университета @uchzap-petrsu
Рубрика: Социология
Статья в выпуске: 5 (118), 2011 года.
Бесплатный доступ
Геронтообразование, социология образования, демографическое старение населения
Короткий адрес: https://sciup.org/14749943
IDR: 14749943
Текст статьи Геронтообразование в России глазами экспертов
Современная демографическая ситуация в мире и в нашей стране характеризуется резким увеличением доли пожилых людей в возрастной структуре населения. Так, согласно прогнозам экспертов Всемирного банка, к 2025 году в России доля граждан старше 65 лет составит около 18 %, причем каждый шестой пенсионер потребует долгосрочного обслуживания. Это повлечет за собой значительные финансовые затраты, которые составят 4 % валового внутреннего продукта, что сравнимо с расходами на национальную оборону, и потребует отвлечения дополнительных людей для ухода за престарелыми [2; 77]. Трансформация возрастной структуры порождает ряд негативных социальных последствий. Увеличивается нагрузка на системы налогообложения, здравоохранения, пенсионирования, социальной защиты и т. д. Ряд демографов (А. Со-ви, Ж. Кало, Б. Кайцер, М. Дебре) считают, что стареющее общество консервативно, боится риска, нетерпимо к радикальным экспериментам, поэтому оно станет непрогрессивным, отстающим от других обществ не только по технической оснащенности и экономическому благосостоянию, но и в интеллектуальном и творческом достижениях [1; 35]. В настоящее время учеными разработано несколько стратегий адаптации общества к данным социальным изменениям. Наиболее часто предлагаются меры по привлечению иностранной рабочей силы, использованию незадействованных трудовых ресурсов безработных, женщин, инвалидов и т. д. Встречаются и полуфантастические проекты, суть которых состоит в организации безлюдных рабочих мест (в Японии уже есть супермаркеты без продавцов и кассиров). Но учитывая темпы роста доли пожилых людей в обществе, можно констатировать, что решить обозначенные проблемы без использования трудового, социального, культурного и другого потенциала старшего поколения не представляется возможным. В связи с этим чрезвычайную актуальность сегодня приобретает задача реинтеграции пожилых граждан во все сферы общественной жизни, которая, в свою очередь, оказывается связанной с вопросами повышения профессиональной и социальной компетентности, инклюзией пожилых граждан в образовательное пространство.
Образовательные программы для старшего поколения успешно реализуются во многих странах. Число лиц, охваченных ими, по всему миру ежегодно достигает 3,5 млн человек. Количественные показатели развития геронтообразования в России пока являются достаточно скромными. Сегодня в нашей стране функционируют чуть более 100 специализированных образовательных проектов, в которых ежегодно участвуют около 12 000 россиян [3; 40]. Тем не менее уже можно говорить о том, что в РФ наметилась устойчивая тенденция развития образования старшего поколения. Ввиду социальных изменений, связанных с трансформацией возрастной структуры российского общества, чрезвычайно важной представляется задача синхронизации отечественного геронтообразования с требованиями времени, его ориентация на профилактику и преодоление негативных последствий демографического старения. Для решения этой задачи необходимо детальное изучение состояния образования представителей старшего поколения в России и характера установившихся в нем тенденций. Вне всяких сомнений, важнейшим источником данной информации является мнение экспертов – лиц, непосредственно связанных с геронтообразованием.
В 2006–2011 годах специалистами Тюменского государственного нефтегазового университета был проведен экспертный опрос лиц, имеющих прямое отношение к организации и реализации программ геронтообразования, а также ученых, сфера научных интересов которых соприкасается с проблемами образования старшего поколения. Респонденты были дифференцированы на две категории – «практики» (75 %) и «теоретики» (25 %). К «практикам» мы отнесли педагогов и организаторов специализированных проектов. «Теоретики» – это ученые, сфера деятельности которых так или иначе касается проблем геронтообразования (социологи, философы, физиологи, педагоги, экономисты, демогра- фы, врачи, социальные работники и т. д.). Все вопросы анкеты, затрагивающие конкретные моменты образовательного процесса, задавались исключительно практикам. 44 % респондентов имеют ученые степени докторов и кандидатов наук. Средний возраст экспертов – 46 лет. Выборочная совокупность формировалась преимущественно по методу «снежного кома». Всего опрошено 150 экспертов из 24 городов РФ.
Как известно, пожилой возраст – это достаточно субъективная категория. Поэтому анализ ответов респондентов необходимо начать с выявления их представления о том, какой именно этап человеческой жизни они рассматривают в качестве пожилого возраста. Более половины экспертов указали начальный рубеж пожилого возраста в интервале 55–65 лет. Неожиданным оказалось то обстоятельство, что практически все эксперты при ответе на этот вопрос указали конкретный хронологический возраст. Никто из респондентов не отметил необходимости учета индивидуальных характеристик человека (состояния здоровья, уровня социальной активности и т. д.). Мы считаем, что данное обстоятельство свидетельствует о склонности экспертов ассоциировать старость с социальным возрастом (в данном случае – возрастом выхода на пенсию). Частично последнее подтверждается их точкой зрения на социальные функции пожилых людей в современном обществе. На вопрос «в чем заключается главная социальная функция пожилого человека?» были получены следующие ответы: передача культурных ценностей – 67 %, воспитание подрастающего поколения – 46 %, выполнение профессиональных функций – 14 %, самореализация и развитие – 7,5 %. Нетрудно заметить, что большинство экспертов рассматривают старость как этап выполнения «второстепенных социальных ролей».
Достаточно интересным представляется сопоставление ответов респондентов на вопросы «для чего сегодня нужно учить пожилых людей?» и «с какой целью пожилые люди обращаются к образованию?». Большинство респондентов убеждены, что геронтообразование должно помогать пожилым жить в современном обществе, научить их справляться с трудностями в повседневной жизни (78 %). В то же время, по мнению опрошенных, только 47 % учащихся обращаются к образованию за подобного рода помощью. Основным мотивом участия в образовательных проектах является удовлетворение потребности в общении (70 %). Таким образом, значительная часть респондентов считают, что мотивы участия пожилых граждан в образовательных проектах не совпадают с целями, которые геронтообразование сегодня преследует (или должно преследовать). В 17 % случаев в качестве мотива обращения геронтов к образованию респонденты отметили необходимость получения знаний для профессиональной деятельности. Этот факт обращает на себя внимание, поскольку в РФ сегодня нет образовательных проектов для старшего поколения, направленных на повышение профессиональной квалификации или переквалификацию. То есть, даже не ставя перед собой задачи профессиональной подготовки пожилых граждан, геронтообразование в какой-то степени ее решает.
Ответы респондентов на вопрос «чему нужно обучать пожилых людей?» фактически выступили индикатором того, каких именно знаний, по мнению экспертов, сегодня не хватает представителям старшего поколения. В большинстве случаев опрошенные указывали на необходимость обучения современным технологиям (40 %) и получения знаний, облегчающих процесс социальной адаптации геронтов (23 %). Достаточно часто респонденты указывали на необходимость повышения психологической (13 %), коммуникативной (9 %) и юридической (7 %) компетентности представителей старшего поколения. Следует отметить, что среди опрошенных выделяются эксперты, допускающие возможность функционирования геронтообразования как формы досуга пожилых граждан (6 %).
Одной из задач исследования было выявление представлений экспертов о характеристиках образования геронтов, отличающих его от других возрастных групп. Большинство опрошенных, отвечая на данный вопрос, отталкивались от того, что специфика геронтообразования определяется физиологическими и психологическими особенностями контингента слушателей. 20 % респондентов видят данную специфику в ухудшении когнитивных способностей учащихся, 18 % – в необходимости терпеливого и внимательного отношения к пожилым людям, только 16 % отметили в качестве детерминант специфики нетрадиционные методы и технологии обучения. 17 % опрошенных признали главной особенностью геронтообразования наличие у учащихся богатого жизненного опыта, причем в половине случаев опыт рассматривался как фактор, осложняющий протекание образовательного процесса. Около трети респондентов обратили внимание на то обстоятельство, что обычной практикой геронтообразования является обучение старших младшими.
Самым большим препятствием на пути ин-ституциализации геронтообразования в нашей стране является проблема финансирования образовательных проектов. В связи с этим все чаще высказывается мысль о необходимости расширения программ платного образования геронтов. Результаты исследования выявили следующие мне ния экспертов по данному вопросу: 43,6 % поддерживают данную идею, 39,6 % убеждены, что обучение пожилых является направлением социальной работы и должно быть бесплатным.
Таким образом, число сторонников и противников платного образования в выборочной совокупности оказалось практически равно.
Резюмируя результаты исследования, необходимо отметить следующее. По мнению большинства респондентов, современное геронтообразование далеко не в полной мере решает те задачи, которые оно перед собой ставит. Во многом это обстоятельство обусловлено мотивацией слушателей, их ориентацией на удовлетворение потребности в общении и организации досуга. В то же время нередко мотивом обращения слушателей к образованию является необходимость получения знаний для профессиональной деятельности (14–17 %). И хотя сегодня в России нет специализированных профессиональных программ, полученные данные позволяют констатировать необходимость их организации.
Исследование подтвердило, что отечественное геронтообразование несвободно от негативных стереотипов образа старости. Эксперты в основной своей массе склонны рассматривать пожилых людей как однородную группу. Они убеждены, что данная социальная категория характеризуется плохим состоянием здоровья и низким уровнем функциональной грамотности, а также несформированностью установок на непрерывное образование. Но при этом большинство экспертов не сомневаются в наличии у представителей старшего поколения потенциала, который может и должен быть использован на благо общества. Можно сделать вывод, что для экспертов характерна низкая оценка социальной значимости (а нередко и эффективности) фактической образовательной активности пожилых на фоне достаточно высокой оценки социального потенциала геронтообразования как такового. То обстоятельство, что сами организаторы и преподаватели образовательных курсов находятся под влиянием геронтофобных стереотипов, не может не сказаться на содержании образовательных программ, на качестве их реализации, а также на процессе развития герагоги-ки – науки об образовании пожилых. К примеру, только 16 % экспертов видят специфику обучения пожилых в использовании нетрадиционных педагогических технологий, в то время как основная масса их коллег рассматривают в качестве детерминант образования геронтов ухудшение когнитивных способностей, необходимость считаться с возрастным статусом учащихся и т. д. Среди респондентов нет единодушия относительно возможности введения платы за обучение. Это свидетельствует о том, что значительная часть экспертов (30–40 %) не рассматривают возможность функционирования геронтообразования вне сферы социальной защиты пожилых людей, предвзято оценивают образовательные по-требности и мотивы геронтов.
Результаты исследования позволяют выделить в тенденциях развития российского геронтообразования ряд парадоксальных моментов: • невысокие количественные показатели охвата пожилых россиян специализированными образовательными программами при значительном числе представителей старшего возраста в структуре населения;
-
• декларация равенства всех возрастов, утверждение в массовом сознании представлений о старости как полноценном этапе человеческой жизни нередко соседствуют с фактической реализацией геронтофобных практик в самом геронтообразовании;
-
• крайне тяжелое финансовое положение образовательных проектов при резко негативном отношении их организаторов к возможности введения различных форм платного образования для пожилых;
-
• отсутствие программ профессиональной подготовки на фоне возрастающей социальной потребности государства в профессиональной реинтеграции представителей старшего поколения и наличии категории граждан «третьего возраста», имеющих установку на получение соответствующих знаний.
Во многом препятствия и парадоксы на пути развития отечественного геронтообразования являются следствием нескоординированности усилий различных образовательных учреждений, отсутствия программ подготовки профессиональных герагогов, а также отсутствия внешнего воздействия, управляющего процессом развития образования старшего поколения. Тенденции роста числа специализированных образовательных проектов и количества участвующих в них граждан позволяют констатировать, что образование старшего поколения в России будет и дальше динамично развиваться. Вопрос в том, сможет ли общество по достоинству оценить и рационально воспользоваться огромным экономическим, социальным и культурным потенциалом геронтообразования.
140 с.
Список литературы Геронтообразование в России глазами экспертов
- Осколкова О. Б. Старение населения в странах Европейского союза: проблемы и суждения. М.: Диалог-МГУ, 1999. 112 с.
- Раменский С. Е., Раменская Г. П., Раменская B. C. Вопросы использования квалифицированного труда пенсионеров на предприятиях//Третий возраст: старшее поколение в современной информационной среде: Материалы Всерос. междисциплинарной науч. конф. Москва, 30 января 2008 г./Отв. ред. Л. М. Качалова. М.: Изд-во СГУ, 2008. С. 77-80.
- Сорокин Г. Г. Образование пожилых граждан в условиях демографического старения. Тюмень: ТюмГНГУ, 2010. 140 с.