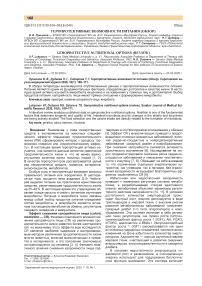Геропротективные возможности питания (обзор)
Автор: Лукьянов В.Ф., Дудаева Н.Г., Сатарова Т.Г.
Журнал: Саратовский научно-медицинский журнал @ssmj
Рубрика: Научные школы и памятные даты
Статья в выпуске: 1 т.16, 2020 года.
Бесплатный доступ
В обзоре литературы анализируются опубликованные данные о геропротективных возможностях питания. Питание является одним из фундаментальных факторов, определяющих долголетие и качество жизни. В настоящее время активно изучается микробиота кишечника и ее изменения у пожилых лиц и долгожителей. Выбор продуктов питания, калорийность пищи имеют прямое отношение к формированию микробиоты.
Гериатрия, микробиота, снижение калорийности пищи
Короткий адрес: https://sciup.org/149135504
IDR: 149135504 | УДК: 613.2:612.06:616-053.9(045)
Текст научной статьи Геропротективные возможности питания (обзор)
-
1 Введение . Выявление у ряда лекарственных средств в экспериментах на животных специфического эффекта повышения продолжительности жизни (ПЖ) сформировало интерес к процессу торможения старения или «геропротективному эффекту». В настоящее время геропротекция активно изучается, она является важным аспектом увеличения продолжительности жизни и, что не менее важно, улучшения качества жизни пожилых людей [1, 2]. В качестве геропротекторов рассматривается целый ряд лекарственных средств, гормонов, витаминов, антиоксидантов, метаболитов.
Особую роль в геропротекции занимают вопросы правильного питания или геродиетика. В шестидесятые годы прошлого века академик Д. Ф. Чеботарев выделил питание как практически единственное средство, увеличивающее продолжительность жизни на 25-40%. В настоящее время это утверждение обретает новые смыслы в связи с активным изучением микробиоты. Питание и микробиота тесно связаны между собой: выбор продуктов питания определяет состав микробиоты, а микробиота является активным поставщиком метаболитов обмена, регуляторов пищевого поведения и иммунитета.
Эффект снижения калорийности пищи (caloric restriction — CR). Феномен позитивного влияния снижения калорийности пищи (CR) на увеличение продолжительности жизни известен более шестидесяти лет, но механизмы этого эффекта еще исследуются. CR является наиболее надежным и воспроизводимым методом увеличения продолжительности жизни многих животных, включая млекопитающих и приматов в эксперименте, и это положение закономерно экстраполируется на человека [3, 4]. Феномен позитивного влияния снижения калорийности пищи под-
твержден в контролируемом исследовании у обезьян [5]. Эффект CR у млекопитающих приводит к предотвращению основных возрастных заболеваний, включая сердечно-сосудистые и нейродегенеративные заболевания, сахарный диабет и новообразования. При снижении калорийности снижается активность хронического воспаления [6]. Исследования на людях продемонстрировали снижение риска сердечнососудистых заболеваний и повышение чувствительности к инсулину [7, 8]. Обращает на себя внимание то, что ограничение отдельных энергетических нутриентов, как углеводов, так и липидов, без ограничения калорийности не вызывает благоприятных эффектов, свойственных CR [9].
Избыточная или недостаточная калорийность приводит к изменению регуляции системы метаболизма, и разрабатываемая «теория адаптивного ответа» метаболизма объясняет механизмы регуляторного действия калорийности [10, 11]. В условиях достаточного количества энергоресурсов происходит быстрый рост, энергия депонируется в виде триглицеридов в жировой ткани, с высоким риском развития метаболических заболеваний (ожирение, сахарный диабет 2-го типа, атеросклероз) и новообразований. Эта система включает в себя активацию таких регуляторов, как гормон роста (GH)/ин-сулиноподобный фактор роста 1 (IGF1), Akt, FOXO, mTORC, адипонектин и BMAL1. Инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF1) рассматривается как один из основных маркерных показателей патологических изменений на фоне избыточного количества энергоресурсов. Адипонектин — хорошо изученный маркер жировой ткани, участвующий в развитии ожирения, атеросклероза, инсулинорезистентности и сахарного диабета.
В условиях недостаточного энергоресурса подавляется рост и размножение, а сэкономленную энергию используют для поддержания биологической функции выживания. Эта система включает в себя следующие сигнальные пути: белок SREBP-1c, сиртуин (SIRT), белок PGC-1α, митохондриальные реактивные формы кислорода (ROS), лептин и нейропептид Y (NPY). Механизмы регуляции направлены на эффективное использование энергии и запускают антиоксидантные, противовоспалительные, противоопухолевые процессы, а также процессы аутофагии. Аутофагия в настоящее время рассматривается как эффективный геропротектив-ный механизм [12, 13].
Аутофагия принимает активное участие в развитии саркопении. Саркопения — состояние, проявляющееся генерализованной прогрессирующей потерей скелетной мышечной массы, мышечной силы и работоспособности, что приводит к немощности, снижению качества жизни и преждевременной смерти [14]. В условиях энергетического дефицита обычно ожидается усугубление саркопении. Однако установлено, что физические упражнения и ограничение калорийности эффективны в профилактике и лечении саркопении, и такой эффект связывают с улучшением регуляции аутофагических процессов поврежденных митохондрий (митофагия) [15, 16]. Очевидно, саркопения инициируется высокой оксидантной активностью с нарушением энергообразования в митохондриях со снижением эффективности процессов митофагии. Митофагия необходима не только для удаления поврежденных митохондрий, но и для биосинтеза новых, поддерживая митохондриальный контроль качества [17, 18]. Снижение ми-тофагии свойственно пожилым и способствует старению [19].
Общее положение эффекта от снижения калорийности пищи может быть сформулировано следующим образом: сокращение калорийности питания на 30-40% ниже расчетного уровня может задерживать наступление старости и сопутствующих этому периоду жизни заболеваний, обеспечивает повышение устойчивости к стрессу и замедление функционального спада [20].
Сложности использования стратегии снижения калорийности пищи связаны с низкой мотивацией людей на существенное сокращение калорийности рациона питания (на 30-40%). Данная стратегия увеличения продолжительности жизни предполагает высокую мотивацию и сохранение адекватных когнитивных функций. При достаточной мотивации рассматриваются несколько вариантов снижения калорийности [21]. Первый вариант: снижение калорийности при ежедневном приеме пищи. Второй вариант: прерывистое ограничение энергии (IER), включающее пост через день или 2–3 дня в неделю (72 часа без ограничения воды). Третий вариант: ограничение доступа к питанию (с высоким содержанием жиров) в течение нескольких часов в день (TRF). Легче контролируется и понятней для больных вариант прерывистого ограничения энергии (пост через день или 2–3 дня в неделю).
Диета, имитирующая голодание (Fast Mimicking Diet — FMD), — один из безопасных и эффективных способов редуцирования энергопотребления. На FMD получены хорошие результаты по снижению инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF1), увеличению продолжительности жизни на животных. Диета FMD для больных разработана и апробирована в Институте долголетия в Университете Южной Калифорнии. Участвовавшим в программе предлагалось 1 раз в месяц в течение пяти дней подряд ограничить калорийность и содержание белка в рационе. В ка- честве источника энергии предпочтение отдавалось жирам, а не углеводам. В первый день калорийность не превышала 54% (в среднем около 1090 килокалорий в сутки для среднего человека) от обычной калорийности рациона. Содержание белка составляло 10% от расчетной калорийности, жира 56%, а углеводов 34%. Со второго по пятый день калорийность пищи не превышала 34% от общепринятого значения (в среднем около 725 килокалорий в сутки). Содержание белка в пище составляло 9% от калорийности, жира 44%, углеводов 47% [22].
Роль и место микробиоты в процессах старения человека. Количество микробных клеток в кишечнике более чем в 10 раз превышает количество собственных клеток организма. Еще более разительные отличия наблюдаются по геномному представительству: гены микроорганизмов кишечника в 100 раз превосходят число генов человека [23]. До настоящего времени большинство представителей микрофлоры кишечника не идентифицировано и только 10-15% микроорганизмов культивировано [24, 25]. Суммарный вес микробиоты достигает 3% массы тела человека, а ее метаболическая активность сопоставима с печенью, но при этом доминирующим биохимическим механизмом у микрофлоры является метаболизм водорода, а не окислительные процессы, характерные для печени. Эти биохимические особенности, а также синтез короткоцепочечных жирных кислот, синтез ряда медиаторов, в том числе медиаторов нервной системы, формируют представление о микробиоте как самостоятельном метаболическом органе [26, 27].
С позиции эволюционного развития жизни исходные биохимические процессы и системы регуляции сформировались у микроорганизмов, а затем в той или иной форме были интегрированы в более сложные организмы. Характерным примером эволюционного развития можно назвать появление у эукариот митохондрии в качестве внутриклеточной органеллы. Митохондрия исходно была микроорганизмом с анаэробными процессами образования энергии при участии короткоцепочечных жирных кислот. При развитии ряда патологических состояний, в частности при новообразованиях с активацией клеточного деления, происходит внутриклеточное переключение именно на такой, «микробный», механизм энергообразования (реакция Варбурга). Разработанная в конце прошлого века академиком В. М. Уголевым «теория функциональных блоков» основана на представлении об интеграции систем метаболизма и регуляции микрофлоры в систему метаболизма и регуляции макроорганизма. В настоящее время эти представления трансформировались в концепцию «сверхорганизма», при котором метаболизм микрофлоры и метаболизм макроорганизма, а также их геномы рассматриваются как совместные [28–30].
Микробиоту можно рассматривать как своеобразный индикатор состояния макроорганизма по реакциям на количество энергии в рационе, на качественный состав пищи, на циркадность сна, на освещенность. Выделяют ядро микробиоты, которое формируется в течение первых лет жизни и сохраняется достаточно стабильно на протяжении длительного времени [31, 32]. В 2011 году выделено три энтеротипа микробиоты, каждый из которых идентифицируется по преобладанию одного из трех бактериальных родов: Bacteroides (энтеротип 1), Prevotella (энтеротип ) и Ruminococcus (энтеротип 3) [33].
Формирование микробиоты происходит в течение первых двух-трех лет жизни с сохранением стабильности до 70 лет с последующим изменением микробиоты у пожилых, с уменьшением ее видового разнообразия и уменьшением количества Bacteroides [34]. С возрастом наряду с этим уменьшается разнообразие микрофлоры, увеличивается популяция факультативных анаэробов, что сопровождается неспецифическим воспалением слизистой оболочки кишечника и повышением проницаемости [35, 36].
Функциональные изменения кишечной микробной флоры пожилых оценивали с помощью полногеномного секвенирования, при этом установлено, что с возрастом увеличивается потеря генов, регулирующих ключевые метаболические механизмы: происходит синтез короткоцепочечных жирных кислот, снижается сахаролитическая активность и возрастает протеолитическая активность [37]. Короткоцепочечные жирные кислоты (КЦЖК), состоящие из трех углеродов (пропионат) и четырех углеродов (бутират и его конформационные изомеры: сукцинат, масляная кислота, янтарная кислота конформации 1 и 2, фумаровая кислота, малеиновая кислота) синтезируются несколькими видами бактерий, преимущественно энтеротипом Bacteroides. Пропионат и бутират (сукцинат, янтарная кислота) являются ключевыми энергетическими метаболитами (сукцинат — метаболит цикла Кребса), а также сигнальными молекулами регуляции целого ряда жизненно важных функций организма.
Прямое воздействие на геном пожилого человека связывают с влиянием микробиоты на микроРНК (одноцепочечная некодирующая молекула РНК), которая изменяет стабильность мРНК и подавляет на ней процессы трансляции. Это позволило бактериям пищеварительного тракта оказывать воздействие на посттранскрипционную экспрессию генов организма-хозяина [38].
У долгожителей выявлено десятикратное повышение Eubacterium limosum ( Clostridium XV кластера) — микроорганизмов, обладающих противовоспалительным действием [39]. Выявлена связь продолжительности жизни с бифидобактериями: по сравнению с людьми в возрасте 80–99 лет у долгожителей в возрасте 100–108 лет достоверно более высокие уровни Bifidobacterium [40].
Эксперименты по трансплантации фекалий долгожителей мышам показали свою эффективность. Пересадка мышам экзополисахаридов B. animalis RH из фекалий долгожителей повышала антиоксидантную активность: активность супероксиддисмута-зы, каталазы и общую антиоксидантную активность плазмы крови и глютатиона в печени, а также снижала накопление липофусцина в головном мозге [41].
Улучшение микробиоты с увеличением количества Bacteroides, что характерно для долгожителей, можно добиться изменением рациона пожилых. Увеличение потребления продуктов, богатых пищевыми волокнами, имеет положительную корреляцию с увеличением числа представителей видов Bifidobacterium, Roseburia и вида Eubacterium rectale . Это приводит к возрастанию синтеза КЦЖК, которым отводится значительная роль в подавлении воспаления, в предотвращении развития онкологических заболеваний, миграции и инвазии опухолевых клеток [42].
Описан эпигенетический эффект: у больных с ожирением микрофлора индуцирует экспрессию генов, регулирующих липидный и углеводный обмен, стимулирующий повышенное потребление высококалорийных продуктов, а при ограничении кало- рийности происходит рост бактерий, характерных для долгожителей [43].
Метформин является одним из лекарственных ге-ропротекторов. При приеме метформина происходит увеличение общего количества КЦЖК, особенно пропионата [44]. Полногеномное секвенирование при сахарном диабете 2-го типа выявило небольшие дис-биотические изменения. Однако функциональные микробные анализы показали достоверно значимое снижение потенциала к производству бутирата у этих больных [45]. В настоящее время рассматривается реализация геропротективного эффекта метформина через изменение микробиоты [46]. Прием метформина значительно увеличивает число микроорганизмов, продуцирующих бутират и пропионат, которые активируют интестинальный глюконеогенез и снижают продукцию глюкозы печенью. Увеличение количества пропионатсинтезирующих бактерий ( Bacteroides spp. , Veillonella spp. и др.) посредством модификации рациона или с использованием пробиотиков позволяет улучшить состояние углеводного обмена, а также увеличить эффективность терапии сахарного диабета 2-го типа при лечении метформином.
В начале обзора показано влияние калорийности пищи на продолжительность жизни. Изменение калорийности оказывает существенное воздействие на микробиоту. Увеличение калорийности пищи вызывает увеличение соотношения Firmicutes/Bacteroidetes , а уменьшение калорийности приводит к обратному результату [47]. Описан следующий эпигенетический эффект: бактерии, с наличием которых ассоциировано ожирение, индуцируют экспрессию генов, регулирующих метаболизм липидов и углеводов; это может приводить к повышенному потреблению энергетически ценных веществ из рациона [48]. Ограничение калорийности рациона приводило к росту числа бактерий, связанных с увеличенной продолжительностью жизни (например, Lactobacillus ), а также к снижению количества видов, отрицательно коррелирующих с продолжительностью жизни [49].
В качестве перспективных направлений улучшения состояния микробиоты у пожилых рассматривается использование пробиотиков. Обсуждается имплантирование микробиоты донора или собственной микробиоты, взятой в молодом возрасте и сохраненной в криобанке [50].
Заключение. Питание остается одним из ключевых вопросов в гериатрической практике, оно активно изучается в популяционных исследованиях долгожителей. Накопленные к настоящему времени данные позволяют рекомендовать для увеличения продолжительности и улучшения качества жизни, в частности для снижения рисков коморбидных заболеваний (новообразования, сахарный диабет, когнитивные нарушения), ограничение калорийности рациона (caloric restriction — CR). В качестве практических рекомендаций для больных можно рекомендовать несколько вариантов: а) диета, имитирующая голодание (FMD), с ограничением калорийности 1 раз в месяц на 5 дней; б) прерывистое ограничение энергии (IER), включающее пост через день или 2–3 дня в неделю. Микробиота кишечника принимает активное участие в метаболизме, особенно в синтезе короткоцепочечных жирных кислот, которые являются ключевыми участниками энергетического метаболизма и кофакторами регуляций многих физиологических процессов. Диетические рекомендации по улучшению качественного состава микробиоты связаны с увеличением в рационе клетчатки. Клет- чатка может быть рекомендована в виде добавления к готовым блюдам отрубей и/или увеличением в рационе бобовых (чечевица, горох и др.), овощей.
Список литературы Геропротективные возможности питания (обзор)
- Dontsov VI, Krutko VN. Biological age as a method for systematic assessment of ontogenetic changes in the state of an organism. Russian Journal of Developmental Biology 2015. 46 (5): 246-53.
- Gems D. What is an anti-aging treatment? Exp Gerontol 2014; 58: 14-8.
- Liao CY, Rikke BA, Johnson TE, et al. Genetic variation in the murine lifespan response to dietary restriction: from life extension to life shortening. Aging Cell 2010; 9: 92-5.
- Katewa SD, Kapahi P. Dietary restriction and aging, 2009. Aging Cell 2010; 9 (2): 105-12.
- Colman RJ, Anderson RM, Johnson SC, et al. Caloric restriction delays disease onset and mortality in rhesus monkeys. Science 2009; 325: 201-4.
- Weindruch R, Walford RL. The Retardation of Aging and Disease by Dietary Restriction. Springfield, IL: Charles C. Thomas, 1988.
- Weiss EP, Racette SB, Villareal DT, et al. Improvements in glucose tolerance and insulin action induced by increasing energy expenditure or decreasing energy intake: a randomized controlled trial. Am J Clin Nutr 2006; 84: 1033-42.
- Lefevre M, Redman LM, Heilbronn LK, et al. Caloric restriction alone and with exercise improves CVD risk in healthy non-obese individuals. Atherosclerosis 2009; 203: 206-13.
- Brown-Borg HM, Borg KE, Meliska CJ, et al. Dwarf mice and the ageing process. Nature 1996; 384: 33.
- Holliday R. Food, reproduction and longevity: is the extended lifespan of calorie-restricted animals an evolutionary adaptation? Bio Essays 1989; 10: 125-7.
- Hoshino S, Kobayashi M, Higami Y. Mechanisms of the anti-aging and prolongevity effects of caloric restriction: evidence from studies of genetically modified animals. Aging (Albany NY) 2018; 10 (9): 2243-51.
- Yan Y, Finkel T. Autophagy as a regulator of cardiovascular redox homeostasis. Free Radic Biol Med 2017; 109: 108-13.
- Barbosa MC, Grosso R A, Fader CM. Hallmarks of Aging: An Autophagic Perspective. Front Endocrinol 09 January 2019. URL: https://doi.org/10.3389/fendo. 2018.00790
- Cruz-Jentoft AJ, Baeyens JP, Bauer JM, et al. Sarcopenia: European consensus on definition and diagnosis: Report of the European Working Group on Sarcopenia in Older People. Age Ageing 2010; 39 (4): 412-23.
- Fan J, Kou X, Jia S, et al. Autophagy as a Potential Target for Sarcopenia. J Cell Physiol 2016; 231: 1450-9.
- Wohlgemuth SE, Seo AY, Marzetti E, et al. Autophagy and skeletal muscle apoptosis during aging: effects of calorie restriction and lifelong exercise. Exp Gerontology 2010; 45 (2): 138-48.
- Um JH, Yun J. Emerging role of mitophagy in human diseases and physiology. BMB Rep 2017; 50: 299-307.
- Shi R, Guberman M, Kirshenbaum LA. Mitochondrial quality control: the role of mitophagy in aging. Trends Cardiovasc Med 2018; 28: 246-60.
- Sun N, Yun J, Liu J, et al. Measuring in vivo mitophagy. Mol Cell 2015; 60: 685-96.
- Barger JL, Walford RL, Weindruch R. The retardation of aging by caloric restriction: its significance in the transgenic era. Exp Gerontol 2003; 38: 1343-51.
- Ingram DK, de Cabo R. Calorie restriction in rodents: caveats to consider. Ageing Res Rev 2017; 39: 15-28.
- Brandhorst S, Choi IY, Wei M, et al. A periodic diet that mimics fasting promotes multi-system regeneration, enhanced cognitive performance, and healthspan. Cell Metab 2015; 22 (1): 86-99.
- O'Hara AM, Shanahan F. The gut flora as a forgotten organ. EMBO Rep 2006; 7 (7): 688-93.
- Lay C, Rigottier-Gois L, Holmstrom K, et al. Colonic microbiota signatures across five northern European countries. Appl Environ Microbiol 2005; 71 (7): 4153-5.
- Zoetendal EG, Collier CT, Koike S, et al. Molecular ecological analysis of the gastrointestinal microbiota: a review. J Nutr 2004; 134 (2): 465-72.
- Beckhed F, Ding H, Wang T, et al. The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage. Proc Natl Acad Sci USA 2004; 101 (44): 15718-23.
- O'Hara AM, Shanahan F. The gut flora as a forgotten organ. EMBO Rep 2006; 7 (7): 688-93.
- Goodacre R. Metabolomics of a superorganism. J Nutr 2007137 (Suppl 1): 259S-266S.
- Sleator rD. The human superorganism — of microbes and men. Med Hypotheses 2010; 74 (2): 214-5.
- van Duynhoven J, Vaughan EE, Jacobs DM, et al. Metabolic fate of polyphenols in the human superorganism. Proc Natl Acad Sci USA 2011; 108 (Suppl 1): 4531-8.
- Bartosch S, Fite A, Macfarlane GT, et al. Characterization of bacterial communities in faeces from healthy elderly volunteers and hospitalized elderly patients by using realtime PCR and effects of antibiotic treatment on the faecal microbiota. Appl Environ Microbiol 2004; 70 (6): 3575-81.
- Zoetendal EG, Rajilic-Stojanovic M, de Vos WM. High-throughput diversity and functionality analysis of the gastrointestinal tract microbiota. Gut 2008; 57 (11): 1605-15.
- Arumugam M, Raes J, Pelletier E, et al. Enterotypes of the human gut microbiome. Nature 2011; 473 (7346): 174-80.
- Vaiserman AM, Koliada AK, Marotta F. Gut microbiota: A player in aging and a target for anti-aging intervention. Ageing Res Rev 2017; 35: 36-45.
- Claesson MJ, Cusack S, O'Sullivan O, et al. Composition, variability, and temporal stability of the intestinal microbiota of the elderly. Proc Natl Acad Sci USA 2011; 108 (Suppl 1): 4586-91.
- Tiihonen K, Tynkkynen S, Ouwehand A, et al. The effect of ageing with and without non-steroidal anti-inflammatory drugs on gastrointestinal microbiology and immunology. Br J Nutr 2008; 100 (1): 130-7.
- Rampelli S, Candela M, TurroniS, et al. Functional metagenomic profiling of intestinal microbiome in extreme ageing. Aging (Albany, NY) 2013; 5 (12): 902-12.
- Patrignani P, Tacconelli S, Bruno A. Gut microbiota, host gene expression, and aging. J Clin Gastroenterol 2014; 48: S28-S31.
- Biagi E, Nylund L, Candela M, et al. Through ageing, and beyond: gut microbiota and inflammatory status in seniors and centenarians. PLoS One 2010; 5 (5): e10667.
- Wang F, Huang G, Cai D, et al. Qualitative and semiquantitative analysis of fecal bifidobacterium species in centenarians living in bama, guangxi, china. Curr Microbiol 2015; 71 (1): 143-9.
- Shen Q, Shang N, Li P. In vitro and in vivo antioxidant activity of bifidobacterium animalis isolated from centenarians. Curr Microbiol Springer-Verlag, 2011; 62 (4): 1097-103.
- Zeng H, Lazarova DL, Bordonaro M. Mechanisms linking dietary fiber, gut microbiota and colon cancer prevention. World J Gastrointest Oncol Baishideng Publishing Group Inc, 2014; 6 (2): 41-51.
- Trompette A, Gollwitzer ES, Yadava K, et al. Gut microbiota metabolism of dietary fiber influences allergic airway disease and hematopoiesis. Nat Med 2014; 20 (2): 159-66.
- Qin J, Li Y, Cai Z, et al. A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes. Nature 2012; 490 (7418): 55-60.
- Forslund K, Hildebrand F, Nielsen T, et al. Disentangling type 2 diabetes and metformin treatment signatures in the human gut microbiota. Nature: Europe PMC Funders 2015; 528 (7581): 262-6.
- Mathur R, Barlow GM. Obesity and the microbiome. Expert Rev Gastroenterol Hepatol Informa Healthcare 2015; 9 (8): 1087-99.
- Delzenne NM, Cani PD. Interaction between obesity and the gut microbiota: relevance in nutrition. Annu Rev Nutr Annual Reviews 2011; 31 (1): 15-31.
- John GK, Mullin GE. The gut microbiome and obesity. Curr Oncol Rep Springer US, 2016; 18 (7): 45.
- Zhang C, Li S, Yang L, et al. Structural modulation of gut microbiota in life-long calorie-restricted mice. Nat Commun Nature Publishing Group 2013; 4: 2163.
- Bezrodny SL, Shenderov BA. Intestinal microbiota as a source of new biomarkers of aging. Bulletin of restorative medicine 2015; 2: 40-7. Russian (Безродный С. Л., тендеров Б. А. Кишечная микробиота как источник новых биомаркеров старения. Вестник восстановительной медицины 2015; 2: 40-7).