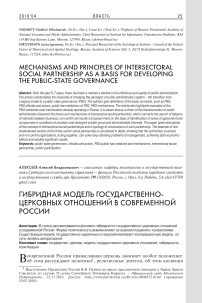Гибридная модель государственно-церковных отношений в современной России
Автор: Алексеев Алексей Владимирович
Журнал: Власть @vlast
Рубрика: Обустройство России: вызовы и риски
Статья в выпуске: 4, 2018 года.
Бесплатный доступ
В статье рассматривается феномен гибридности государственно-церковных отношений в современной России. Форма политического режима влияет на взаимоотношения с конфессиями. Существующая модель государственно-церковных отношений имитирует кооперационную модель, по сути, являясь авторитарной.
Государство, церковь, модель государственно-церковных отношений, гибридность, политизация
Короткий адрес: https://sciup.org/170169021
IDR: 170169021 | DOI: 10.31171/vlast.v26i4.5758
Текст научной статьи Гибридная модель государственно-церковных отношений в современной России
Всовременной России православная церковь занимает особое положение: об этом рассуждают политики1, религиозные деятели, об этом косвенно сказано в преамбуле закона о свободе совести и религиозных объединениях. Формат взаимодействия между государством и церковью называют по-разному: партнерством1, соработничеством2, «симфонией»3. Либеральные исследователи и публицисты4 отмечают, что формат взаимодействия все больше похож на модель государственной церкви, хотя, ради справедливости, стоит отметить, что это не совсем так.
Политологи, обществоведы, оценивая современный формат государственноцерковных отношений (ГЦО), ведут речь о кооперационной модели [Исаев 2010]. Принимая во внимание такое разнообразие мнений, вопрос о современной модели государственно-церковных отношений можно считать открытым.
Представляется интересным и актуальным рассмотреть существующую в настоящее время модель ГЦО через призму российского политического режима.
Российские и зарубежные политологи [Морозова, Мирошниченко, Рябченко 2015] по-разному квалифицируют сложившийся режим: его называют деле-гативной демократией, дефектной демократией, авторитарной демократией, либеральной меритократией, конкурентным авторитаризмом, гибридным режимом [Баранов 2007]. Тем не менее большинство исследователей сходятся в одном – политический режим в России сочетает в себе как авторитарные, так и демократические признаки. Например, выборность власти, с одной стороны, и ее персонификация с присущим ей авторитаризмом и несменяемостью – с другой; наличие политических партий, с одной стороны, и их имитационный характер – с другой, в условиях, когда фактически отсутствуют политическая борьба и сменяющие друг друга партии-соперники [Дорожкин, Даминдарова 2014], и т.д. Американский исследователь Р. Саква отмечает, что современный российский режим – это синкретическая смесь авторитарных, демократических, корпоративистских, либеральных элементов [Саква 1997].
Взаимоотношения государства и Русской православной церкви (далее – РПЦ) не являются столь простыми, как это кажется на первый взгляд, – они сложны, противоречивы, неоднозначны, многослойны. В них рельефно отражается трансформационный характер российской политической системы и всей современной общественно-политической жизни. Наша гипотеза заключается в том, что современные ГЦО являются гибридными, т.к. сочетают в себе демократические признаки, заложенные в основополагающих законодательных актах, регулирующих конфессиональную сферу, и авторитарные. К последним относятся государственно-церковный бюрократизм, протекционизм в отношении главной традиционной конфессии, политизация РПЦ. Другими словами, гибридная модель ГЦО имитирует кооперационную, хотя, по сути, является авторитарной (при ведущей роли государства), преференциальной в отношении РПЦ и дискриминационной по отношению к нетрадиционным религиозным объединениям.
В рамках кооперационной модели [Шахов 2003] государство и церковь рассматриваются как равные партнеры. Действительно, в Конституции РФ гово- рится, что Россия – светское государство, в котором никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной1.
Но в настоящее время масштаб взаимодействия между государством и РПЦ действительно впечатляет: это законодательные инициативы, образование, культура, информационная сфера, здравоохранение, социальная сфера, силовые ведомства, космос, совместные дискуссионные площадки, гранты, просветительские проекты и благотворительность. Однако обратной стороной данной ситуации является феномен государственно-церковного бюрократизма, подчинение церкви интересам государства и протекционизм в отношении РПЦ.
За последние 10 лет система церковного управления значительно трансформировалась. Созданы синодальные отделы и комиссии – аналоги государственных министерств, которые призваны не только координировать вну-трицерковную жизнь, но и разрабатывать стратегии государственно-церковного взаимодействия, лоббировать церковные интересы во власти, привлекать финансирование. Государственно-церковный бюрократизм пронизывает всю вертикаль, начиная от верхних эшелонов власти до чиновников низового уровня с обеих сторон. Регулярные встречи первых лиц государства, членов правительства, глав администраций различного уровня со священнослужителями соответствующего ранга, множество подписанных соглашений, договоров, взаимное участие в мероприятиях во многом создает ситуацию, в которой РПЦ не только осуществляет институциональную деятельность, но и запланированно участвует в повседневной жизни государственного аппарата, поддерживает, легитимирует существующий режим и сама становится его частью.
Одним из проявлений государственно-церковного бюрократизма является сотрудничество государства и церкви и законодательной сфере. В течение последних 10 лет в России на федеральном уровне при косвенном участии церкви были приняты законы и законодательные акты, в той или иной степени создающие благоприятные условия для деятельности традиционных конфессий и их взаимодействия с государством. Среди таковых можно отметить законы о передаче церкви имущества, об оскорблении чувств верующих, регламентирующие миссионерскую деятельность, и т.д. Важным признаком государственноцерковного бюрократизма является общность интересов государственных и церковных элит, а также отчуждение обеих бюрократий от простого народа. В этой связи необходимо отдельно отметить, что интересы церкви как сакрального социального института и интересы церковных элит – не одно и то же.
Возникает ситуация, когда церковь, масштабно взаимодействуя с государством и не имея достаточного объема собственных средств, начинает привлекать предложенное государством грантовое финансирование. В итоге, регулярно используя последнее, церковь перестает быть для государства равным партнером, попадает в подчиненное от него положение.
Парадокс заключается в том, что, с одной стороны, взаимодействие между государством и РПЦ в настоящее время действительно разнонаправленное, с другой – не все свои интересы церковь может лоббировать, несмотря на свой «особый статус», т.к. является скорее не равным партнером, а второстепенной стороной в этих отношениях. К проблемным в этом смысле направлениям относятся, в частности, сфера образования (в вопросах расширения предметной области ОПК, в рамках курса ОРКСЭ и выравнивания норматива финансирования государственных и конфессиональных образовательных организаций), социальная сфера (по вопросу выведения абортов из системы ОМС, ювенальной юстиции и семейного законодательства).
Еще одним признаком гибридности ГЦО является политизация РПЦ. Под политизацией в данном случае мы понимаем прямое или косвенное участие религиозных организаций в общественно-политической жизни страны. Одним из наиболее ярких примеров политизации церкви является ее участие в идеологическом обсуждении целей и перспектив развития страны. Иными словами, сотрудничество государства и РПЦ сконцентрировалось в идеологической сфере и во многом определяется процессами общественно-политической трансформации. Церковь предлагает государству и обществу политико-идеологические концепты традиционалистской направленности, которые являются национальной особенностью русского православия и не являются частью православного богословия, например, идеологему «русский мир», включающую в себя среди прочего авторитаризм, державный религиозный мессианизм, «особый русский путь», использование образа врага (внутреннего и внешнего), антиглобализм; «особую роль церкви в России». Одной из особенностей нынешнего гибридного режима является идеологическая гибкость. Поэтому политические концепты, предлагаемые РПЦ, являются только частью несформировавшейся аморфной политической идеологии, ориентированной на этатизм и «новый консерватизм». Политизируясь, подчиняя себя целям и задачам, которые ставят властные элиты и государство, РПЦ во многом обрекает себя на вторичность, теряя при этом свою сакральную суть.
Список литературы Гибридная модель государственно-церковных отношений в современной России
- Баранов Н.А. 2007. Политический режим современной России. -Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 35. С. 54-64
- Дорожкин Ю.Н., Даминдарова Ф.В. 2014. Партии в современной России: реальные политические акторы или их имитация? -Полис. Политические исследования. № 11. С. 92-97
- Исаев А.В. 2010. Роль и место Русской Православной Церкви в развитии государства: история и современность. -Среднерусский вестник общественных наук. № 1. С. 138-148
- Морозова Е.В., Мирошниченко И.В., Рябченко Н.А. 2015. Гибридные политические институты: к проблеме типологизации. -Человек. Сообщество. Управление. Т. 16. № 4. С. 6-26
- Саква Р. 1997. Режимная система и гражданское общество в России. -Полис. Политические исследования. № 1. С. 76-80
- Шахов М.О. 2003. Государственно-конфессиональные отношения: анализ типологий и «силовая модель». -Полития. № 3. С. 158-179